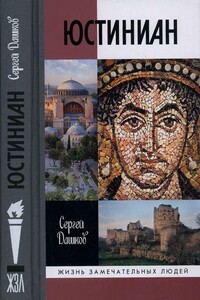Тадзимас | страница 44
Диво дивное, да и только.
Бывают же такие чудесные люди!Она радовалась моим, наконец-то вышедшим одна за другою и незамедлительно подаренным ей, с соответствующими теплыми надписями, книгам, – радовалась так, как не радовался, наверное, я сам.
Она постоянно держала их при себе. Никому не давала читать, даже на короткое время.
Она читала их, читала, перечитывала, она вчитывалась в тексты так, что я начинал понимать: это часть и ее жизни.
Это было – ее, родное.
А как она любила и умела слушать стихи!
Мало кому это дано.
Уговорит почитать, бывало. Сидим у нее на веранде. Я – перед нею. Она – напротив. Я читаю ей.
И вижу, краем зрения – вижу: все в ней вдруг раскрывается – глаза, все лицо, губы, она вся – слух, вся – внимание, порыв навстречу звуку, слову, и я чувствую, как стихи входят в нее, как она воспринимает их по-особому, всем, что есть в ней, движением всей фигуры ее, как-то откинутой, свободно приподнятой над прямоугольником стола, как у певчих птиц, и руки, жесты их – певучие, и это отключение себя от всего остального, лишнего, мешающего слушать, это переключение себя только на музыку стихов, на звучащую речь, эта завороженность звуком, песней, восторг, за которым – громадная память, в ней все и останется, эта ее радость общения, с глазу на глаз, один на один, и внимание, внимание, а за ним – редчайшее понимание, такое, ради чего жить стоит, – незабываемо!Несколько позже, в начале девяностых, уже хорошо изучив мои изданные книги, она развила свою, приведенную выше, мысль, записала ее на случайном листке и отдала мне.
Вот эти ее слова:
– На фоне поэтического нытья стихи Владимира Алейникова, даже печальные, прямо-таки благовестят о свете и радости. Для меня они волшебные. Их не надо объяснять, их надо слушать.
В середине девяностых, там же, у себя на веранде, разом прекратив нелепые, раздражившие ее споры молодежи о том, кто есть кто в поэзии – она решительно изрекла:
– Алейников – русский поэт, потому что он мыслит по-русски.
Вот что она понимала куда лучше других!
И, наконец, уже незадолго до смерти, году в девяносто седьмом, она, постаревшая после перенесенного инсульта и несколько от этого напряженная, но по-прежнему внутренне собранная, малоразговорчивая, но мыслящая на удивление отчетливо и ясно, как и всегда, читавшая опять у себя в комнате мои книги, вышла вдруг на веранду, к гостям, к своим постояльцам, с палочкой, спокойная, светлая, вся – свет, белые волосы вразлет, голова вскинута, помедлила, а потом ясно и просто сказала: