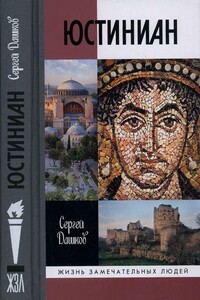Житие тщеславного индивида | страница 34
Но все-таки он был памятен и интересен – тот период жизни, и пять лет спустя у меня вышла первая книжка с повестью о молодых шахтерах, где я сравнивал их с Прометеем, ценой жизни даровавшим людям огонь.
10. Начало
Метельным февральским днем 1957 года меня вызвал заместитель редактора «Донецкой правды» Владимир Яковенко.
– С апреля в области начнет выходить новая районная четырёхполоска. Меня назначили туда редактором, пойдешь ко мне заведовать отделом промышленности? Там тоже есть шахты, – сказал он.
– Спасибо. И не подумаю, соглашусь, – нескладно ответил я.
Заявление об увольнении начальник участка передал начальнику шахты. Борис Аббарцумович Хлиян, энергичный, чернобровый красавец, весело глянув, спросил:
– Что не устраивает?
– Появившийся страх и предложение работать в газете.
– Беда с вами, с писателями. А мне где прикажешь взять такого проходчика, который бы в рубашке родился? Ни обрыв клети, ни обвал в штреке тебя не берет.
– Радуйтесь, долго жить буду.
– Ну, живи! – И энергичным росчерком Хлиян подписал заявление.
При расчете ободрали, как липку, за не отработанный срок договора по найму, за спецовку, не отслужившую своё. Денег осталось только на дорогу домой. А друзья в общежитии потребовали устроить отвальную:
– От нас бегут только через «батарею».
– Какая «батарея»? Я пустой, как гнилой орех!
– А мы колоть тебя не будем. Но шахтерский порядок блюсти надо, – сказал бригадир и азартно потер ладонь об ладонь. – Есть чем блюсти, проходяги?
– Была бы глотка, будет и водка, – весело отозвался Куприянец.
И проводы вылились в мерзкое зрелище. Кто-то еще днем сумел ухватить в магазине ящик водки. Его приволокли в нашу комнату, отшибая об край грязного ведра горлышки, вылили в него все двадцать бутылок и поднесли мне:
– Начинай!
Зажмурившись и сдерживая позывы рвоты, начал глотать.
– Давай, давай! В газете столько не поднесут! – подбадривал бригадир.
На бессчётном глотке в рот попало что-то скользкое, желудок, как при обрыве клети, подскочил вверх и, едва сдержавшись, чтобы не блевануть в ведро, передал его Куприянцу. Дальше помню узкий канатный мост через Мартышкину балку, фигуру, с которой никак не разминуться, потому что шатаемся в одну сторону, что-то блеснувшее в руке фигуры, и треск ломающихся подо мной кустов на дне балки. Потом больница, капельница и через три дня поезд нёс меня в старый мир моего многодетного детства.
В Ярославле показалось как-то пусто. Лев Присс учится в Казани, из Полушкинских приятелей кто-то отхватил срок, а кто-то ещё тянет армейскую лямку. Один. Кто это сказал: «Одиночество прекрасно, когда есть кому сказать, что одиночество прекрасно»!? Месяц спустя, сколотили с отцом новый фанерный чемодан, сложил в него скудное барахлишко, томик Бернарда Шоу, двухтомник Генриха Ибсена, огромный сборник «Горький о писательском труде», купленные еще в Чкаловском, и в дорогу, в новую жизнь.