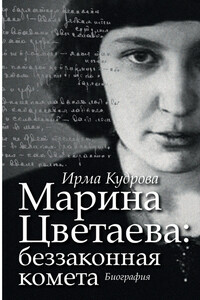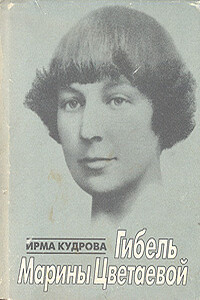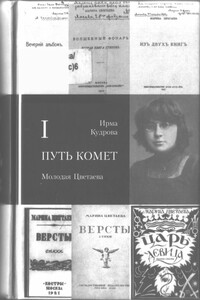Путь комет. Разоблаченная морока | страница 69
— Откуда вам это известно? — спрашивает следователь.
— От лиц, которые были прямо или косвенно замешаны в это дело, — отвечает Эфрон, — от Клепининых, Кондратьева, от самого Смиренского…
Уточняющих вопросов больше не задают — или они не зафиксированы в протоколе. Эфрон же верен себе: он отвечает в таких случаях без подробностей.
Крайне интересны для прояснения вопроса показания Клепинина.
Он, который чуть ли не с первого допроса охотно говорит о своей «предательской шпионской работе», о вероломстве, двурушничестве и всем прочем — в том наборе, который ему стандартно предлагается следователем, — касаясь «дела Рейсса», упорно повторяет одно: ни он, ни Эфрон прямого отношения к лозаннской «акции» не имели! Между тем, в его теперешней ситуации явно героичнее и выгоднее было бы приписать себе перед НКВД как раз активную роль: ведь в Швейцарии был убит «невозвращенец», «предатель»!
Но Клепинин рассказывает иное. Еще за полгода до того Эфрон «получил другое задание», сам же Клепинин, по его словам, узнал об убийстве Рейсса в Лионе из газет. Подвел его Вадим Кондратьев, действительно входивший в группу преследования. Он заявился в их дом в Исси-ле-Мулино спустя несколько дней после «акции» — перед тем как исчезнуть из Франции. Тем самым была брошена тень на Клепининых, бывших с Кондратьевым в родстве. Потому его и его жену вызвали тогда в полицию для допроса. Что же касается Эфрона, то его связи с советским полпредством были уже широко известны.
Так они оба и оказались на виду у полиции и прессы.
Через месяц с небольшим после убийства тот и другой получили от своего «секретного» начальства приказ немедленно отправиться в Гавр, сесть на пароход «Андрей Жданов» и навсегда покинуть Францию. Приказ был передан им через посредника и не подлежал обсуждению. Но, как утверждает Клепинин, сама поспешность их «эвакуации» была ошибкой и глупостью — тем самым советские спецслужбы расписались в своей причастности и к убийству Рейсса, и к похищению генерала Миллера. С другой стороны, их бегством, получившим широкую огласку, охотно воспользовалась французская полиция. Она могла теперь громко уверять публику, что сделала все от нее зависевшее: подлинные убийцы обнаружены, но — увы! — только что скрылись. Дело отныне могло быть закрыто, — по крайней мере, на стадии поисков виновных. Так говорит на допросах Клепинин.
Эти показания, мне кажется, очень важны для тех, кто действительно хотел бы наконец разобраться, кто есть кто. К чему бы Клепинину в этом вопросе сочинять? Между тем, в этих признаниях, не один раз повторенных в протоколах его допросов, — разгадка репутации, какая закрепилась за Эфроном (и Клепининым) больше чем на полстолетия. Не только французской полиции, но и советским спецслужбам было выгодно выставить Эфрона чуть не главным виновником швейцарского убийства: одни объявляли таким образом об успешном завершении своих расследований, другие укрывали подлинных организаторов и исполнителей преступления.