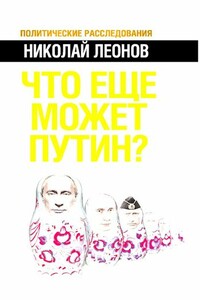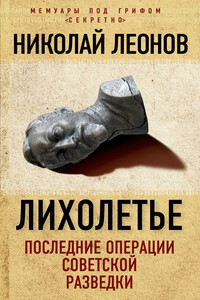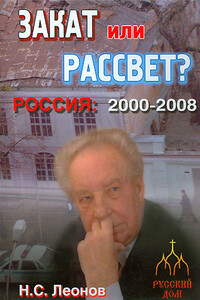Крестный путь России | страница 65
В составе Государственной думы работал до 1999 г. депутат от либерально-демократической партии (жириновец) Владимир Александрович Лисичкин - доктор экономических наук. Он много занимался вопросами приватизационной политики 1992-1997 гг. и даже написал небольшую книжицу под названием "Черная приватизация", изданную, правда, крошечным тиражом - 1000 экземпляров. Так вот он сравнивал действия российских приватизаторов с пиратским разбоем, бушевавшим в Новом Свете в XVI-XVIII веках. Тогда "приватизаторами" называли корсаров или каперов, которые получали от английских, французских или голландских монархов документ на право разбоя на воде и на суше в испанских колониальных владениях. Этот документ назывался либо "каперский патент" либо "приватизационное свидетельство", и он давал право "приватизировать все, что доступно в Новом Свете". Это сравнение недалеко от истины, ибо правовые основания для разбоя были такими же хилыми, а поле для грабежа практически безбрежным.
Сузив максимально число вероятных претендентов на государственную собственность путем обесценивания банковских вкладов граждан, младореформаторы взялись и за ту относительно небольшую часть населения, которая уже имела доступ к управлению предприятиями, была носительницей профессиональных знаний и управленческих навыков. Речь идет о директорском корпусе, инженерно-технической интеллигенции и наиболее активной части рабочего класса. Они все больше втягивались в частнособственническое предпринимательство на основе "полного хозяйствования" и "аренды с выкупом". И вот тогда А. Чубайс объявляет уже проводившийся медленными темпами по китайскому образцу процесс разгосударствления "стихийной приватизацией". По его словам, "это было разворовывание общенародной собственности. Но это разворовывание не было нелегальным, потому что легальных, законных схем разгосударствления не существовало". Подумать только, А. Чубайс в роли блюстителя общенародной собственности! Как бы не так! Его раздражало, что плодами приватизации пользовались другие слои, группы населения, которые он определяет как "партийные, директорские, региональные и отчасти профсоюзные элиты". Чубайс в своем разоблачительном угаре даже сочувствует трудящимся, трудовым коллективам, чьим именем прикрывалось тогдашнее начальство. Совершенно очевидно, что оставлять собственность пусть в частных, но в тех же постылых "совковских" руках было нельзя. Надо было создавать новый класс собственников, не связанных никакой пуповиной с прежним строем, создавать из людей, давно враждебно относившихся к советской системе или внутренне конфликтовавших с ней. Очередь тех, кто ожидал своего куска от упавшей в руки добычи, была весьма велика. По всей стране на разных уровнях, насчитывалось 800-900 тыс. относительно активных "демократических" функционеров, т. е. лиц, исполнявших те или иные властные полномочия. Несколькими годами позже А. Чубайс публично признается, что тогда было возможно и целесообразно обменять власть на собственность. В советское время ни один даже очень высокопоставленный партбюрократ не мог обзавестись собственностью, приносящей доход. Дети Хрущева, Брежнева, Андропова и т. д. зарабатывали свой хлеб в качестве писателей, профессоров, чиновников. Я уж не говорю о министрах, генералах, руководителях экономики. Дальше социалистического треугольника: "квартира, дача, машина" их благополучие не простиралось. Иное дело "демократические кадры". Они сразу же выстроились на предмет получения своей доли трофеев. Удовлетворить всю эту достаточно прожорливую публику можно было, только допустив к приватизационному процессу.