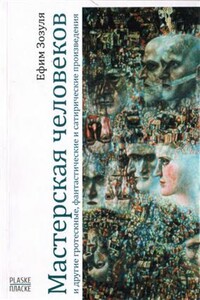День поминовения | страница 34
Да и растерялись мы, такие вот, как я, бабы с ребятишками. Душой заметались, а с места стронуться сил нет — куда, как, с чем, к кому? К родне, что в ближних местах, переходить без толку, а к тем, кто в дальних краях, мы опоздали.
Остались. Решили, что получше, спрятать и стали закапывать кто под мост, кто на задах. Мы с Гришаней тож схоронили в огороде сундук, а в нем кой-что из одежи, хорошее, да мучки два туеса, да сальца кусок соленого. Сготовились.
Живем. Но как живем? На душе беспокойно, зябко. Слухи разные ходят, один другого страшнее: и Орел взят, и Мценск взятый, и лютуют страшное дело как. Радиво давно молчит, понятно, и мы ничего толком не знаем. И с каждым днем нам от этой тишины все страшнее и страшнее.
Дом Федор наказывал беречи. Дом хороший, каменный, под шифером, а братья Федоровы, деверья мои, все на войне. Двое младших были в армии, небось и они на фронте. И вроде я одна за дом перед всеми в ответе. Нет, дом я бросить не могла.
В сельпо уж давно продукты не завозили, значит, с базы дороги не стало, а может, и базы нет, ясно одно — близко проклятые, ой близко.
Заявились, однако, к нам только в декабре, ночью. Числа не упомню, а день был четверг. И мороз сильный, лютый, без снега. Снег еще не ложился, так, чуть попорошило, землю видать.
Ребята спали на печи раздевшись, а я в юбке на кровати, под ватным одеялом, на перине, и все мне зябко, будто знобит, и сплю сторожко, вполглаза. И вдруг загудела земля. Подниму голову — не слыхать, лягу на подушку — гудит. А это через пол слышно, как машины идут. Села, слушаю, и вот уже кругом слышно — в окна с улицы. Много машин, тяжелые. Только я кофту надела, платок накинула — побечь, с крыльца глянуть,— заботали в ворота. Я еще и шевельнуться не успела, затрещала калитка — выломали. Затопали по крыльцу, заорали по-своему “матка, аус, аус”, по-ихнему — открывай. Приказала старшеньким одеваться быстро, и польты и валенки, а сама медлю, засовами да крюками гремлю, будто запоров много, чтоб детям время дать: сейчас, мол, сейчас открою.
А гады психуют, в дверь ломятся. Открываю. Ввалились кучей, фонарями своими зажужжали, по углам да под койкой оглядели и тут же давай нас гнать из дома: “вег, вег, аус, аус”. Старшие мои одеты, я сама в сенях успела схватить телогрейку, а дочушка моя в одной рубашонке, на печке, забилась к самой стенке, но не плачет. Достала я ее оттудова, взяла на руки и к кровати — за одеялкой. Показываю: дайте дите завернуть. Нет, вцепились в одеяло, из рук выдернули и толкают, толкают автоматами в спину. Так я и сейчас чувствую — железом в хребет. Говорю им: “Проклятые, дайте хоть хлеба горбушку взять детям”. А они толкают и толкают — “вег, вег” — к двери, в сени, на крыльцо, во двор, на мороз. Платок с головы сорвала, девчонку завернула и к себе, под ватник. А тут коровушка, кормилица наша, замычала, почуяла недоброе, я было к сараюшке шагнула, к Красавке, а немцы как заорут да автоматом в живот затолкали, заворачивай, дескать, пока жива, “вег-вег” — и за ворота.