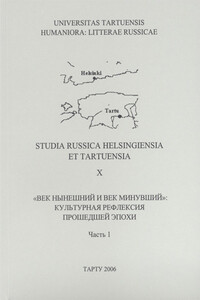История и повествование | страница 20
(Лотман 1998: 385)
Это утверждение очевидным образом отсылает к понятию Тынянова о «тесноте стихового ряда». Это вполне легитимная отсылка к наследию русского формализма, о чем уже упоминалось выше. В работе «Проблема стихотворного языка» (1924) Тынянов, как известно, вводит понятие «эквивалентности текста», соответствующее представлению о высокой степени осмысленности и соответствия именно «тесного», редуцированного стихотворными ограничениями текста. Лотман настаивает на том, что усиление редукции ведет к увеличению сходства, эквивалентности. По сути дела, в переводе на простой язык этот парадокс Лотмана звучит как — чем меньше сходства (чем более обобщено, редуцировано, сублимировано изображение), тем больше похоже.
Как можно заметить, это миметическое свойство редукции может быть выведено из определения модели, данного в другой работе Лотмана — «Искусство в ряду других моделирующих систем» (1967): «Модель — аналог познаваемого объекта, заменяющий его в процессе познания» (Лотман 1998: 387). В таком определении очевидно, что модель есть результат редукции. Разумеется, понятие модели гораздо более амбивалентно, даже в работах самого Лотмана, чем в этой формуле. Основной вопрос, который возникает в связи с этим определением, — в какой момент объект замещается моделью и в какой момент модель замещается или превращается в произведение искусства (вторичную модель)? Ну и, разумеется, что является объектом моделирования, если судить о нем можно только по модели?
Вопрос об эквивалентности модели искусства реальности может решаться немногочисленными очевидными способами. Пожалуй, лучше всего один из полюсов таких возможностей характеризует Гомбрих в статье на очень близкую тему «Маска и лицо: восприятие физиогномического сходства в искусстве и жизни». Этот подход распределяется между двумя анекдотами:
One is summed up in the answer which Michelangelo is reported to have given when someone remarked that the Medici portraits in the Sagrestia Nuova were not good likeness — what will it matter a thousand years’ time what these men looked like? He had created a work of art and that was what counted. The other line goes back to Raphael and beyond to a panegyric on Fillipino Lippi who is there said to have painted a portrait that is more like the sitter than he does himself. The background of this praise is the Neo-Platonic idea of the genius whose eyes can penetrate through the veil of mere appearances and reveal the truth.