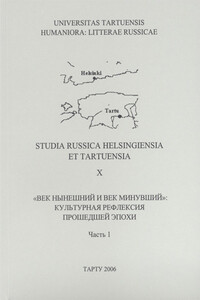История и повествование | страница 10
О культурной обусловленности норм, в соответствии с которыми строятся эмоциональные реакции, говорят и многие школы в современной психологии, прежде всего представители так называемой «культурной психологии», рассматривающие эмоцию не как достояние внутреннего мира человека, закрытое для внешнего наблюдателя, но как элемент межперсональной коммуникации[18]. По определению американского психолога и психотерапевта Теодора Сарбина, эмоции, или «страсти», как, в соответствии с донаучным словоупотреблением, предпочитает он их называть, «представляют собой действия, устроенные по определенному образцу и предназначенные для разрешения тех или иных ценностно нагруженных проблем. Гнев, горе, стыд, восторг и ревность — это риторические акты, цель которых убедить других и себя самого в обоснованности собственных моральных притязаний»[19]. С точки зрения исследователя, эмоции изначально существуют в форме историй (are storied), которые человек, вслух или про себя, рассказывает себе самому и окружающим. В заглавии собственной статьи он определяет их как «нарративные сгущения» (narrative emplotments). Применительно к его научным и клиническим задачам эта формула в основном соответствует тому, что мы здесь называем «психологическим протонарративом».
Для того чтобы нагляднее представить себе, какое место культурные механизмы и артефакты, в данном случае литературные произведения, занимают в структуре эмоции, мы позволим себе воспользоваться схемой эмоционального процесса, предложенной голландскими психологами Николасом Фрайдой и Батья Месквито. Само собой разумеется, эта схема — лишь одна из десятков, существующих в психологической науке, и предпочтение, которое ей здесь оказано, связано не столько с ее научными преимуществами, судить о которых автор этих строк недостаточно компетентен, сколько с ее удобством для целей настоящего изложения[20]. Для такого же рода удобства терминология, которой пользуются соавторы, здесь несколько модифицирована. То, что они называют «регулятивными процессами», определяется в работе как «регулятивные механизмы».
«Субъективная вовлеченность» (concern) реагирующего (перевод не вполне точный, но лучшего, как кажется, не отыскивается) определяется тем, насколько, с его точки зрения, произошедшее событие затронуло существенные для него интересы и значимые для него ценности. Соответственно от уровня такой вовлеченности зависит, состоится ли вообще эмоциональное переживание и насколько интенсивным оно окажется. «Кодируя» событие, субъект переживания идентифицирует его (не обязательно облекая такую идентификацию в словесную форму) как, например, угрозу, оскорбление, неожиданность, соблазн и т. п. На основе этой кодировки, с учетом степени субъективной вовлеченности, и возникает соответствующая «оценка» (assessment) произошедшего: испуг, гнев, удивление, интерес и пр. Именно эту часть эмоционального процесса имел в виду Р. Шведер, называя эмоцию «интерпретативной схемой», которая накладывается на «сырой материал, поставляемый опытом»