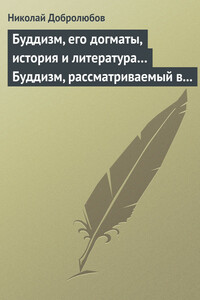Точка зрения. О прозе последних лет | страница 42
Именно в языковой ситуации обеднения, опреснения языка, когда матюки вытесняют народное слово, возрастает, считает Личутин, ответственность писателя за его сохранение — хотя бы консервацию. Отношение Личутина к языку — преимущественно словарное, что тут же уловила его оппонент по «Литературной учебе» Г. Белая: «Астафьевские повести и роман „Тихий Дон“ близки нам не только и не столько своим „словарем“ (сколько макулатуры мы читаем с тем же словарем), сколько стилевой организацией словесного высказывания…».[27]
Отмахнуться от поднятой Личутиным проблемы легко, полезнее его понять — не через теоретические высказывания, а через его собственную художественную практику. Личутин пытается не только сохранить диалектное слово, но и передать расслоенность современного языка, социальную разноголосицу. Для него, к примеру, важно не просто ввести в текст слово «вередить», но и показать остронеприязненную реакцию на это слово со стороны другого языка, обладающего иным социальным кругозором и словесно-идеологическим оформлением. Личутин выстраивает в своей прозе иерархию социальных языков, над которыми возвышается авторский язык, в качестве «красочки» постоянно использующий характерные слова-диалектизмы, просторечия, вульгаризмы и т. п. Основу же авторского повествования составляет книжная лексика, организованная сложноподчиненными, разветвленными фразами, синтаксически крайне замысловатыми: «Вроде бы это, слегка сумеречное, затененное пространство, чудившееся когда-то звучно и пугливо огромным, куда и лошадь-то с возом сена свободно въезжала, за эти годы сузилось; видно, изба, как и любой человек, тоже съеживалась от старости, опадала, хилилась в связях, костенела в суставах, и если бы сохранить ее в спокое еще на столетие, то стены бы, наверное, сомкнулись сквозными пазами, потолок бы слился с полом, а сама бы изба превратилась в огромную надмогильную плиту над всем тем, что когда-то весело рождалось и жило в ней, а после ушло в землю».
Каковы же социальные языки, разноголосицу которых передает Личутин?
В прямой речи героев повести «Последний колдун» их два: язык северной поморской деревни, чистый и образный, — и жаргон поселка городского типа. Жаргонизмы городской речи резко противопоставлены в словесной композиции повести плавной и метафорической народной речи (как «вередить» — матюкам пятилетней внучки Феофана Солнцева). Особенно насыщена и экспрессивно окрашена, естественно, прямая речь героев. Народную речь автор передает с бережностью и несомненным любованием: «А ну, соколик, пить — не долги отдавать», «Осподи, сидят как замороженные. Перья-то, перья оправьте. Проводим короля и королевишну до пуховой перинки. Не кладите камень в изголовье», «Баба-то пьяна, дак у нее и задница не своя», «Без мужа жить, как без соли есть, а с мужем жить, как с перцем есть»… Все эти примеры взяты с первых полутора страниц текста. Рядом с такой прямой речью — на тех же полутора страницах — еще две ярких частушки и народная песня. От этой сверхнасыщенности — как образной, так и лексической (диалектной) — возникает то ощущение «эссенциозности», о котором писал Достоевский.