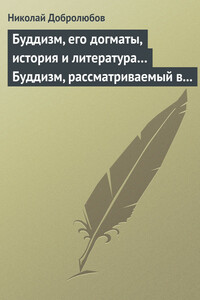Точка зрения. О прозе последних лет | страница 40
Идея не новая, столь же прямолинейная, сколь бесперспективная. Согласиться с ней — значит не только предъявить счет, но и подписать приговор: как хапугам типа Бориса, так и рефлектирующим мечтателям. Свести их всех к Федору, к его печальному итогу.
Второе: философствование бесплодно. Философствование — да, конечно, но философствование еще не лишает интеллигента права на мысль, на настоящую философию. А этого права автор своим героям не дает. Или — или: или нувориш, или фразер.
Не желая «взять в эмоциональный плен», «покорить волю и рассудок» читателя «нарочитой непохожестью» стиля, Г. Семенов выбирает для повествования ровный стилистический рисунок. Оживляется этот рисунок тогда, когда появляются второстепенные, «фоновые» персонажи с экспрессивно окрашенной речью. Таков, например, разговор «на разных языках» — книжно-возвышенном и вульгарно-просторечном — матери и свекрови Раи Луняшиной, принадлежащих к разным социальным группам:
«— Не стали бы водку пить, — говорила она с неожиданным азартом, — все бы пьяницы воскресли, стали бы толковыми человеками… — И умолкла, поджав губы.
Лишь одна Нина Николаевна, в алюминиево-светлом взоре которой всегда теплилась мудрая и несказанно нежная доброта, поддерживала ее, говоря тоже нечто неожиданное и не относящееся ни к чему:
— Я помню, картина была в старом учебнике истории, портрет — энергичное лицо Кромвеля, которое мне почему-то страшно нравилось. Я влюблена была в Кромвеля. Даже подруге своей призналась, а она вытаращила глазенки: ой, говорит, Ниночка, какая ты высокая натура! Так и сказала: „высокая натура“… Сейчас смешно вспоминать, а ведь действительно — были какие-то очень высокие идеалы… Я с вами совершенно согласна.
— Ну да, — говорила Раина мать. — Сейчас ведь мужчины как больные кошки, так бы и пристукнула! То из дома просится, мяучит, то обратно в дом пусти его, а то опять на улицу… Не знаешь, что и делать, как быть. До войны люди лучше были.
— Вы не огорчайтесь, — успокаивала ее Нина Николаевна, с участием разглядывая ее. — Вы всегда должны помнить, что затруднение — первая стадия чуда».
Использование характерологического окрашивания речи персонажа — распространенный прием. Намерения и Г. Семенова, и В. Михальского были благими — одним-двумя «голосовыми» штрихами обрисовать человека. Но почему же этот прием не срабатывает? Если автор вынужден в художественном тексте пояснять читателю свой конкретный прием, то языковой «эпизод» становится неизбежно искусственным. Либо — если в маленьком эпизоде, выпадающем из общей ткани повествования, усиленно концентрируются языковые «черты» героев — он читается как вставной номер, который не связан внутренними отношениями с основной повествовательной тканью. Характерологические оттенки слова используются писателем как «красочка» (говоря его же, Г. Семенова, словом). В повести есть даже разговор о «красочке» как об одной из проблем художественной речи: