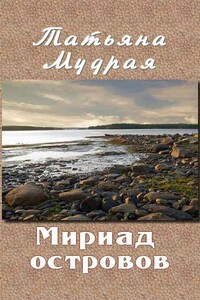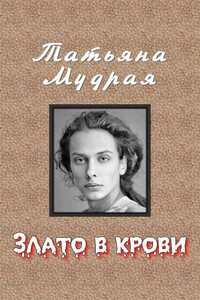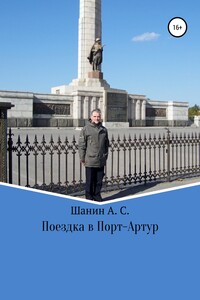Девятое имя Кардинены | страница 12
— Муженек-то у тебя ненадежный. Слинял и оставил тебя мне на съедение.
— Положим, вы не очень-то страшная, верно?
Вдруг Диамис опустилась на пол, по-бабьи мотая головой от горя. И Танеида, как была, во всем великолепии природной своей оболочки, вскочила с постели, уселась рядом на ковер, обнимая и утешая.
Из сказанного и сделанного в прошлые времена, из мрачноватого пророчества Диамис вытекает нижеследующий разговор в ложе для прессы зала Верховного Военного Трибунала города Эрка.
— Слушай, Имран, что для тебя с Кергом интересного в этих нескончаемых процессах экстремистов и всякой прочей оппозиции? Ну, он хоть практикуется в своем ремесле, защищает других и заодно свою персону от тайных на нее покушений.
— Но твоя газета послала же тебя сделать репортаж?
— А, я старая, заезженная газетная кляча, а ведь тебя пускают по следу сенсаций.
— Нынче я сам пустился. Керг адвокат отличный, помимо всего прочего: с подковыркой. Один он стоит целой второй полосы. А в подсудной группе, ну которая своих соратников по эксу выводила с боем из централа, есть одна любопытная девчонка. Вместе со своим то ли мужем, то ли просто дружком прикрывала отступление, так ей почем зря шьют половину трупов. Вот, смотри — рядом с тем цыганом, это они оба и есть.
— Прехорошенькая. Однако на мой вкус бледновата.
— Если она не оправдает наших надежд, хоть полюбуюсь. Что бледновата, оно понятно. Ходят слухи, что была беременна, но это дело в тюрьме уж очень быстро рассосалось.
— Поскольку беременных нельзя приговаривать к расстрелу и даже выводить на суд, им чреватый, тюремная прислуга, так сказать, способствует. Ну, времена пошли! Доказать, ясное дело, ничего нельзя, и сами жертвы помалкивают. Слушай, ты, никак, их последние слова на диктофон собираешься записывать? Всё чушь. Кто отказывается, кто толкает свою идеологию, кому рот зажимают — как обычно. Противники у нашего президента не очень солидные.
— А вот и моя подопечная встает. Ну же!
И тут голос, не такой уж громкий, но совершенно необычного тембра и полетности, наполняет залу суда, отдаваясь во всех ушах:
— Я хочу только просить прощения. У убитых мною, если они слышат. У тех, кто родил их на свет и делил их ложе. У их детей. У моего сына, которому не дали родиться в камере сапоги моих охранников. Пусть все будет взвешено, измерено и признано тем, что оно есть в самом деле!
Слова, на первый взгляд, не такие уж значимые, но идущие вразрез с тем, что ожидалось в зале и ложах. И молчание, поглотившее все разнообразные чувства.