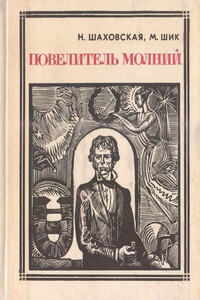Перед бурей | страница 23
Частью этой ярко выделяющейся парчевой заплаты являлась и наша гимназия. Было похоже, что остальной город еще не вполне освоился с ее существованием особенно с блестящими пуговицами гимназических шинелей, в темноте полуосвещенных улиц походивших на офицерские, и с замысловатыми кокардами на фуражках. Когда я достиг старших классов, сколько раз случались со мной анекдотические инциденты на этой почве! Бывало, повстречаешься вечером на какой-нибудь из более глухих улиц с кучкой солдат. Захмелевшие, шумные голоса их вдруг приумолкают, фигуры приосаниваются, начинают вышагивать в ногу, явно готовясь окаменеть, чтобы отдавать честь, — и «есть глазами начальство». И вдруг, разглядев поближе, разражаются неудержимым хохотом «до животиков» и пеняют друг друга: «вот те и на, нашел офицеров — так, чорт-зна што, дермо гимназическое!». Бывало, вслед нам летели и трехэтажные напутствия, а иные хмурые серые шинели порывались и грозились выместить на нас свой испуг кулаком.
В младших классах уличные приключения были повседневным явлением. Для городских мальчишек один вид нашей форменной одежды и особенно кокард с инициалами С. Г. (Саратовская Гимназия) был явным вызовом и кровным оскорблением. Среди них пользовались широкой популярностью кем-то изобретенная нелепо-издевательская расшифровка этих инициалов: «синяя говядина». Известно, что говядина приобретает особый иссиня-красный цвет, изрядно протухнув. А потому задорный вопрос: «эй, ты, синяя говядина, почем за фунт?» имел приблизительно то же значение, как брошенная в средние века одним рыцарем к ногам другого перчатка. Чтобы не терять чести, полагалось перчатку поднять и обнажить шпагу. А у нас это значило засучить рукава и вступить за честь гимназии в бой, кончавшийся тем, что один из бойцов бывал сбит с ног или просто сам бросался на землю: «лежачего не бьют». Младшие гимназистики, которых в часы их возвращения из гимназии домой на некоторых улицах обычно ждала вражеская засада, собирались группами, чтобы проложить себе путь боями «стенка на стенку», в которых с обеих сторон отличались свои Гекторы, Аяксы и Ахиллесы.
Свою долю в этих издавна узаконенных обычаями междоусобицах имел и я. Меня по старой, Камышинской привычке тянуло на Волгу, на берег, куда попасть удавалось только в воскресный или иной праздничный день. Для этого надо было выскользнуть из дому незаметно, пока общее пробуждение только начиналось. Пробраться на берег, наблюдать рыболовов, бродить вокруг нагружаемых и разгружаемых барж, присоседиться к пильщикам дров, прислушиваться к занятным хвастливым россказням «галахов», по-московски — «хитровцев» или просто босяков, здесь получивших свое местное наименование по большому ночлежному дому купца Галахова. Среди них попадались порой самобытные краснобаи, настоящие мастера слова: такой заговорит, словно разноцветными шелками вышивает! После языка бабушкиных сказок и песен, именно здесь нашел я неисчерпаемый родник настоящего родного, народного слова: свежего, крепкого, сочного, как антоновское яблоко, необычайно образного и пересыпанного пословицами, поговорками, побасенками.