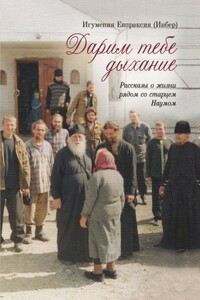Православное пастырское служение | страница 20
Дело спасения и учения не ограничивается поэтому одним психологизмом и морализированием по поводу содеянного плохого, а творение чего-то положительного, не гибнущего в Царствии Небесном. Да и сам митр. Антоний, учивший о пастырском влиянии одной совести на совесть другую и об усвоении чужой личности, вплоть до растворения оного "я" в соборном "мы" пастырской любви, не думал ограничиваться только отрицательным моментом раскаяния, что указано выше. Им был только в значительной мере затемнен чисто мистический элемент, что вполне соответствовало его реализму и психологизму.
Как же поэтому следовало раскрыть слова Апостола об этом строении тайн? В какой атмосфере должна протекать пастырская деятельность священника? Что может восполнить односторонность и исключительно психологический момент воздействия совести на совесть? В самом главном христианском таинстве, — ответим мы, — в евхаристической жизни, в приобщении евхаристическому телу и мистическому телу Церкви. Евхаристическая жизнь есть и должна быть главным духовным устремлением священника.
Священник — прежде всего теург. Священство есть по преимуществу Литургия, Евхаристия, мистическое единство со Христом в таинстве Тела и Крови. Единство и самого пастора, и его пасомых. Духовная жизнь иерея должна протекать прежде всего в этом евхаристическом освящении жизни, себя и людей. Евхаристичность церкви должна больше всего охватывать священника. Невозможность Евхаристии вне Церкви и существование Церкви вне Евхаристии. Отцы церкви не писали трактатов о церкви, а жили в ней и ею, равно как они не писали в классический период богословия схоластических трактатов о Святом Духе, а жили в Духе. Строительство тайн — вот путь, заповеданный ап. Павлом.
В полноту служения священника входят многие обязанности. Он должен отвечать всем требованиям его звания. От него ждут учительства, окормления душ, миссионерства, богослужения, работы по обслуживанию больных, заключенных, скорбных и многое иное, чтобы не говорить о современных увлечениях (на Западе) социальной, спортивной и иными деятельностями иерея.
Но священнику, как и всякому иному простому смертному, могут быть от Бога даны или не даны известные таланты. Он может оказаться плохим оратором или неспособным администратором своего прихода, скучным преподавателем Закона Божия, может быть даже и нечутким и слишком требовательным духовником, он может быть лишен пафоса социального служения; но все это будет ему прощено и не зачеркнет его духовного делания, если только он обладает чувством евхаристичности, если его главное дело — это "строительство тайн" и служение Божественной литургии для мистического приобщения и себя, и пасомых Телу Христову, ради их приобщения Божескому естеству, по слову ап. Петра (2 Петра 1:4). Большей власти и большего мистического средства не дано священнику, чем это служение тайнам Тела и Крови Христовых. Это и должно быть делом жизни священника. Если тот же митр. Антоний так замечательно звал пастырей "путем долговременного подвига созидать в себе молитвенную стихию," как способность возноситься к небу, то нигде и никаким способом эта стихия и эта способность не совершаются в священнике, как в таинстве евхаристического жертвоприношения.