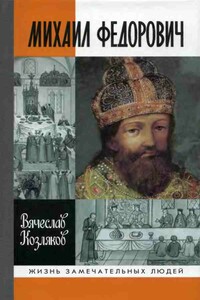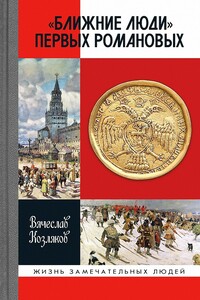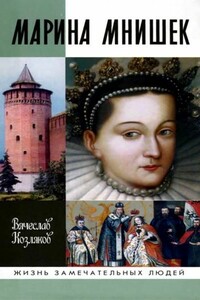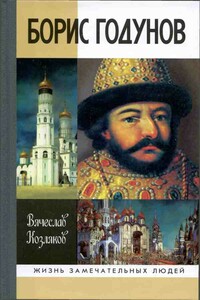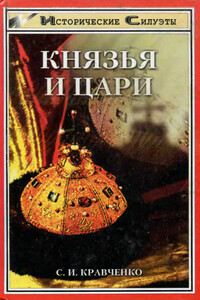Герои Смуты | страница 2
Парадокс состоит в том, что Смута, которая, по мысли Пушкина, стала нашим «оправданием», оказалась едва ли не самым тяжелым временем за всю историю России. В опасную годину только великим напряжением сил, людей, войск, кажется, даже самой Русской земли всё завершилось чудесной победой и освобождением Москвы. Это хорошо понимали читатели «Истории государства Российского» нашего первого историографа Николая Михайловича Карамзина, открывшего широкой публике имена многих героев Смуты. Не случайно пушкинский «Борис Годунов» посвящен его памяти. Но не прошло и ста лет, как в XX веке эти события стали изучать, отвлекаясь от многих деталей, повторяя два теперь уже безнадежно устаревших определения: «крестьянская война» и «интервенция». Восприятие Смутного времени как крестьянской войны устранило в ней всё героическое, сделав существенным один лишь социальный протест. Описание же борьбы с внешней угрозой, когда король Сигизмунд III осаждал со своей армией Смоленск, а польско-литовский гарнизон сидел в Москве, тоже не способствовало глубокому, полноценному пониманию событий, хотя по-прежнему присутствует в учебниках без какой-либо детализации. А ведь представления историков о русских и «поляках» — современниках Смуты — существенно изменились. Сегодня изучаются не вообще действия «поляков» и «литовцев», а действия той польской, украинской, белорусской шляхты и солдат, а также запорожских казаков, кто — часто вопреки прямому запрету короля — пришел воевать в войско Лжедмитрия II, Тушинского вора. Можно вспомнить, что наряду с «поляками» в составе московского гарнизона оказались еще и немцы, французы, венгры и другие наемники. Сама столица Московского царства попала в руки неприятеля по воле Боярской думы, договорившейся о призвании на престол сына того же Сигизмунда III — королевича Владислава.
Внимание к историческим деталям и разным обстоятельствам смутной эпохи необходимо и при изучении ее кульминации, связанной с освобождением Москвы в 1612 году. Как так могло случиться, что в полках подмосковных ополчений (а их, кстати, было два, а не одно) служили тысячи людей, а мы зачастую не помним никаких имен, кроме главных воевод земского движения?
Откуда возникла избирательная героизация событий Смутного времени? Справедлива ли она? Почему историки, а еще и политики без конца спорят об «уроках» и «преодолении» Смуты, проводя широкие исторические аналогии, но при этом забывают про опыт жизни обычных людей? Великий историк Василий Осипович Ключевский — мастер парадоксов — проницательно написал: «Московское государство выходило из страшной Смуты без героев, его выводили из беды добрые, но посредственные люди. Кн. Пожарский был не Борис Годунов, а Михаил Романов — не кн. Скопин-Шуйский»