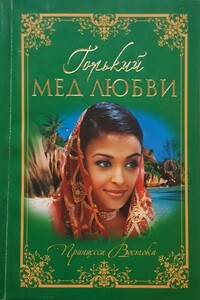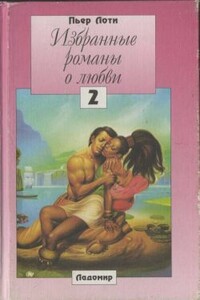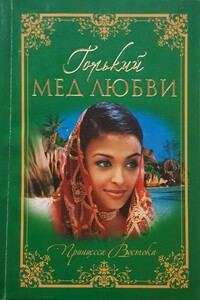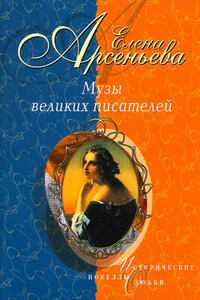Рабыня | страница 59
К песне чернокожих и шуму воды примешивались зловещие крики обезьян-ревунов[21] и болотных птиц; в гулкой тишине лесов эти печальные ночные вопли звучали как призыв… А порой где-то вдалеке слышались и человеческие голоса, стоны умирающих, ружейная перестрелка и глухие удары воинственных тамтамов… Время от времени, когда лодка проплывала мимо какой-нибудь африканской деревни, над лесом вспыхивало зарево пожара; сражались по всей стране: сараколе против ландума, налу против тубакаев,[22] и все вокруг полыхало.
Потом на протяжении нескольких лье вдруг снова воцарялось молчание, угрюмое молчание ночи и глухих лесов. И опять все та же монотонная песня, тот же шум весел, разрезающих черную воду, тот же фантастический бег лодки по стране теней; опять высокие силуэты пальм мелькали над головами, и леса сменялись лесами… С каждым часом скорость лодки, казалось, увеличивалась; река заметно сузилась, стала похожей на ручей, бежавший среди деревьев в глубь страны; стояла глухая ночь.
Черные по-прежнему распевали хвалебные песни; Самба-Бубу брал странную начальную ноту, сливавшуюся с воплями обезьян-ревунов, и хор мрачно вторил ему; негры пели, будто во сне, и гребли яростно, словно одержимые, с нечеловеческой силой, с неукротимой жаждой добраться до места…
И вот, наконец, русло реки зажали с двух сторон ряды лесистых холмов. Впереди, наверху, на высоком утесе замелькали огни; казалось, помаячив на берегу, они спускаются к реке. Самба-Бубу зажигает факел и подает условный сигнал. Происходит долгожданная встреча. Люди из Гадьянге на месте.
Гадьянге расположен на вершине отвесного утеса. Спаги поднимаются по крутым тропинкам, и черные освещают им путь факелами, а потом, в ожидании близкого дня, путники засыпают на циновках в приготовленной для них большой хижине.
Проспав не больше часа, Жан первым открыл глаза и увидел, что дневной свет уже сочится в щели дощатой хижины, освещая полураздетых парней, лежащих на полу с красной курткой под головой: бретонцев, эльзасцев, пикардийцев, почти сплошь светловолосых северян, и тут на Жана нисходит как бы озарение, печальное и таинственное провидение судеб всех этих изгнанников: каждого из них, так безрассудно расходующих свою жизнь, подстерегает смерть.
А рядом — изящная фигура женщины, две черные, увитые серебром руки тянутся к нему, как будто хотят обнять.
Тогда только Жан вспомнил, что прибыл ночью в затерянную средь бескрайних диких земель гвинейскую деревню и что теперь он, как никогда, далек от родины: сюда даже письма не доходят.