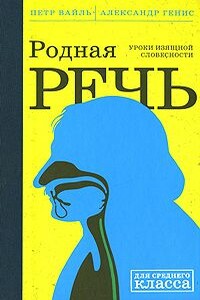Трикотаж | страница 54
Мы тогда жили на даче, которая потом стала мемориалом все того же Виллиса Лациса. На самом деле писатель занимал дом по соседству, но после смерти он так вырос, что ему отдали еще один коттедж. Из нашей веранды вышел его кабинет.
Дачный сезон всегда открывал Минька. С приходом весны он писал в школьный портфель, что помогало Гарику оправдывать двойки. Поняв намек, родители отвозили кота на дачу, предоставляя ему находить себе пропитание и развлечения. Когда становилось теплее и мы тоже перебирались из города, Минька встречал нас усталым, но довольным. После бурной весны он отсыпался у крыльца, не глядя на дюжину разномастных кошек, сидящих на заборе в надежде, что он еще проснется.
Начиная лето, как Минька, отец и проводил его, как он, предпочитая, однако, спать в шезлонге, держа на коленях «Карамазовых», которых он так и не успел дочитать.
Только на старости отец вернулся к классике.
— Знаешь, — спрашивал он меня как филолога, — что у Толстого была тысяча женщин?
Я не знал. Но жалел он меня за другое. Я не умел пользоваться дарами природы. Он умел. Говорят, что только пошляки хотят быть счастливыми, но отец не боялся банальности. Оригинальность он считал болезнью, вроде туберкулеза, худобы и таланта. Проведя молодость между Сталиным и Гитлером, он твердо знал, что выжить способно лишь то, что повторяется. Выбирая из длинного списка, отец остановился на женщинах и политике.
Еще чуждый этим увлечениям, я все лето играл в войну. Мы были индейцами, Гарик сражался на стороне партизан. Самым трудным оказалось вырыть штаб в дюнах. Хотя мы укрепляли стены ивняком и прикрывали яму навесом, за ночь песок все равно ее засыпал, и все приходилось начинать сначала. Так я выяснил, что опустошить мироздание труднее, чем его наполнить. За яму нужно было бороться каждый день, зато замки на пляже вырастали по мановению руки, с которой стекали бурые струйки сильно разбавленного песка, чтобы тут же застыть игривыми готическими шпилями.
Остальное время я проводил над книгами, еще не зная, что рано или поздно все прочитанное окажется химерой, вроде газа флогистона из ветхого учебника физики. Нет такого знания, которое не стало бы бесполезным. Нельзя вообразить ничего такого, чтобы оно не устарело. Конфуций однажды всю ночь думал и ничего не придумал. Уж лучше, — сказал он, — учиться.
Езде на велосипеде, — добавлю я. Поверить в велосипед возможно только потому, что он есть — хотя и не должен бы. Велосипед стоит на двух, так сказать ногах, только пока движется. Все равно куда — как жизнь.