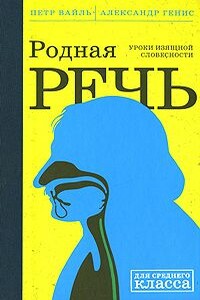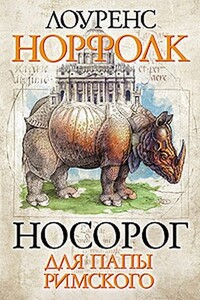Трикотаж | страница 48
Мальчишкой я встретился с ней на Белом море в опасное полярное лето. Торопясь им воспользоваться, власти отменили время. Круглые сутки принимались пустые бутылки и сдавались на прокат прогулочные лодки. В три утра девчонки остервенело прыгали через скакалку. В пять вывозили гулять младенцев, и ночь напролет вязали свое старухи. Солнце едва касалось горизонта и зависало над ним. Молочная мгла гасила свет и глушила звуки — кроме рева теплохода «Михаил Лермонтов», везущего на Соловки пьяных безбилетников.
Пробираясь, как они, на север, мы прибились к армейскому эшелону. Бесцельно блуждая по болотам, состав подолгу стоял у трясины, но мы не решались выйти, потому что никто не знал, когда он двинется вновь. Белесая ночь сменяла такой же слепой день, и о ходе времени мы догадывались только по голоду. Путешествие кончилось вместе с тушенкой, и я так и не узнал, куда мы ездили.
— Как ты думаешь, Пахомов, что это было: ад или рай?
— Чистилище, — буркнул Пахомов, уходя по-английски, то есть не расплачиваясь.
Как всегда, он был прав. Я не верю в вечность мук и блаженства, потому что не могу вообразить ничего вечного, кроме пустоты. Впрочем, и ее я не могу себе представить — даже во сне. Тем более теперь, когда подсознание мое обмелело, и ночи стали нудным продолжением дней. Надеясь на большее, я ложусь спать в шорах, заткнув уши воском, но мне не поют сирены, и просыпаюсь я, каким был, лишь немного короче.
Пурим
Письмо из рабочего поселка Златоуст пришло в самодельном конверте из оберточной бумаги. От лучшей жизни на ней остались промасленные следы. Послание обещало сюрпризы. Вложенное плохо сгибалось, и я сперва подумал, что письмо написано на бересте — из патриотизма, или — из желчности — на наждачной бумаге.
Открыв конверт, я достал из него полтора метра густо исписанных обоев. Бросался в глаза заголовок, выполненный губной помадой: «Das Gott».
Приложенная открытка с космонавтами объясняла происшедшее. С начала перестройки в Златоуст не завозили тетради, к концу ее зарплату платили шнурками и водкой. О себе автор писал только необходимое. Мать — учительница, сам — офицер. От Брежнева до Ельцина сидел без особых на то причин. В лагере выучил немецкий («от общего отвращения к жизни»(и решил стать нерусским писателем. На свободе стал печататься в газете поволжских немцев, но лучшее приберегает для Запада. Чем, собственно, и объясняется посылка с трактатом. Начинался он смело:
«Добравшись до предела своих возможностей и перейдя его, я понял Бога и оправдал Его. Беда Бога в том, что нам недоступен Его замысел. Мы обречены на страдания, ибо не видим, куда они ведут. Не желая нас пугать, Бог вынужден вести себя так, как будто Его нету. Лучшим доказательством Божьей любви служит твердая решимость ничем ее не проявлять. Такой Бог не отличается от времен года, которые дают всему свершиться, сами ничего не делая. Жаль только, что у года четыре времени, у людей — три, а у меня одно, и я провожу его за водкой с шнурками.»