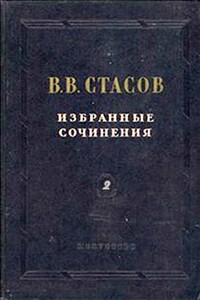Мастерская Верещагина | страница 10
Верещагин начал уже писать в большую величину несколько картин со своих маленьких набросков. Часть нынешнего лета пошла у него на эту работу. Когда погода позволяет, он пишет прямо на чистом воздухе, в „летней мастерской“, состоящей из помоста, сажень в 9-10 в диаметре, представляющего в плане полный круг. Тут по окружности положен рельс, и по нем ходит довольно объемистая будка, защищающая от лучей солнца и ветра; там помещаются модели, разные предметы, с которых пишется картина, и, на необходимом расстоянии, сам художник со своим холстом. Смотря по положению солнца и по надобностям освещения навес этот может переезжать по своим рельсам куда надо, а художник — работать от самого утра и до поздней ночи. Что касается до вещественной обстановки картин, Верещагин все до последней мелочи пишет с натуры. Как прежде из Ташкента и Индии им был привезен целый музей всевозможных предметов бытовой жизни, так и теперь из Болгарии и Турции он привез с собою огромную коллекцию одежды, оружия и всяческих предметов, могущих войти в состав будущих картин. Даже есть у него в музее чучелы орлов, ворон и других хищных птиц, нарочно устроенные по его указанию в позах, какие понадобятся в сценах его картин.
Уже сцены эти начинают явственно выступать на холстах, одни набросаны еще только мелом в одних контурах, другие проложены в красках, иные уже сильно подвинуты вперед, и всякому, кто бы взглянул на этот новый ряд картин, на эту еще новую верещагинскую галерею и коллекцию, нельзя, кажется, сомневаться, что здесь готовится ряд chefs d'oeuvres'ов, будущая честь и слава русской живописи. На мои глаза, национальность и смелость передачи „обыденнейших“, простейших сцен и подробностей жизни не шла дальше в нашем искусстве, и ни у кого из наших пейзажистов никогда еще не была выражена с большею правдою наша родная славянская серенькая, хмуренькая, маловзрачная природа и день. Но зато какое поэтическое представление, какая родственная каждому из нас, близкая нота извлечена тут из этого света, и насупленные погоды, и полумрак, и пустынности. Это все звучит, как народная песня, и никакие самые лучезарные красоты Кашмира и Индии не способны доходить так глубоко, как эти зимние и осенние тоны, до нашего чувства и понятия.
Из всех начатых теперь, пока, у Верещагина картин меня поразила и захватила всего более та, что у него называется: „Дорога близ Плевны“. Тут, как и во всех остальных картинах, зима на сцене, талый снег, весь изборожденный десятками тысяч шагов, копыт и колес. Дорога идет в гору и несколькими зигзагами уходит влево, в угол картины. Из груд снега поднимаются телеграфные столбы со своими железными нитями, усыпанными снегом и усеянными приютившимися, как на насесте, птицами. Везде пустыня, унылое молчание, серый дневной свет. Ни одного живого существа нигде, только каймой по сторонам дороги лежат турецкие трупы, изрубленные, исстрелянные, валяющиеся, как поленья, ничком, боком, запрокинувшись или размахнув в последнем вздохе руки. Нельзя никакими словами рассказать тот аккорд ощущений, то настроение, которое дает эта суровая, чудесно поэтическая, шевелящая все нервы душевные картина. И какая живописность, какая мрачная красота во всем, и в могучих линиях и в еще более могучих красках!