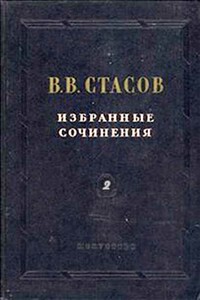Искусство девятнадцатого века | страница 90
Поэтому тяжкий грех против искусства лежит на спине Бёклина и его поклонников: они все усердно всегда хлопотали о том, чтоб перекосить в голове современников здравый смысл, отворотить его от вникания в содержание, перестряпать из здорового по натуре человека — в человека слепого и глухого, и заставить эту порченную куклу думать только о виртуозности и талантливости производителя фальшивого искусства.
Заметим, впрочем, что Бёклин написал на своем веку несколько превосходных портретов с самого себя и с друзей.
Широко проповедуемый в Германии пример Бёклина и громадный успех его произведений, а наконец, дух времени увлекли многих немецких художников, — и немецкие картины наполнились центаврами, тритонами с рыбами, фавнами с козлиным телом, наядами и нереидами также с рыбьим телом, — и все это с подразумеванием великих мировых тайн, символов и аллегорий.
Это случалось, между прочим, с многими другими, с даровитым, но странным Гансом Марэсом. То он изображал нагих женщин в лесу, в академических позах, и назвал такую картину „Геспериды“; то представлял св. Губерта элегантным юношей, на коленях, в лесу, перед распятием, явившимся ему среди рогов оленя; то св. Мартына; то св. Георгия верхом, то (всего чаще) голых классических юношей, срывающих плоды с апельсинных деревьев, — и все это сухо и претензливо, иногда просто неумело и деревянно нарисованное, но изящно расцвеченное красками. Какое же здесь величие и глубина немецкого нового искусства, так усердно рекомендованные немцами всему миру?
Другая жертва Бёклина и духа времени — Ганс Тома. В противоположность Бёклину, рисующему лучезарные пейзажи, лесные и водяные, блещущие всеми красками палитры, немцы находят у Тома „мир своей родины, тихой, простой, трогающей сердце, счастливящей зрителя“, той родины, где (говорят немцы) „мы живем и которую любит всякий из нас, где мы работаем и действуем и где кладем на покой свою усталую голову…“ Превосходно, прелестно, заметим мы на это, но какая же это немецкая дорогая родина, с фавнами, флорами, цветами, центаврами и дудочками?
Дело в том, что Тома родился, действительно, истым немцем, и изобразителем своей родины, ее местностей и людей, а дрессировка воспитания и зловредный пример сделали его наполовину чем-то совсем другим. „Куриный двор“ (1870), „Весною“ (две девочки с венками, 1871), „Скрипач“ (молодой крестьянин играет при луне, под деревом, на скрипке), „Драка мальчишек“ (1872), „Пляска детей“ (1884), „Лоток с овощами и курами“ (1889) и некоторые другие, и вместе с этим целая масса шварцвальдских и баварских, около Мюнхена, пейзажей и деревенских видов, изб, дворов — вот что было у Тома драгоценного и в высокой степени оригинального. Он искал везде, прежде всего, правду жизни, не боялся представлять некрасивость и нищету, грубость и неэлегантность. Он никогда не доходил до красоты красок Бёклина, бывал подчас мало строг в рисунке и сер в колорите (в чем его нередко упрекали даже сами его поклонники), но предоставлял собою что-то такое особенное для всех и родное для немцев, что они по справедливости иной раз называли его „самым немецким“ из всех современных живописцев Германии. Но, начиная с 90-х годов XIX столетия, у него стало появляться из-под его кисти, пера и карандаша немало вещей вовсе не немецких специально, а столько же условных и космополитических, как у Бёклина и прочих декадентов. Он больше чем наполовину стал теперь в своих картинах и рисунках идеалистом, сторонником древней Греции, средневековых преданий и легенд, новых аллегорий и старинных символов. Тут он уже поплатился крупной долей своей прежней правды и естественности и, оста* ваясь реалистом в одних уже только подробностях, стал угощать зрителя нелепыми и ненужными выдумками, наравне с остальными своими товарищами декадентами. Таковы его: „Рай“ (1892), „Весна“ (1894), „Нимфа источника“, „Облако ангелов“ (Engelwolke), „Гарпия“, „Тритон и Тритонша“, „Кентавриха“, „Юный поэт“ (амурчик на Средневековом коне), „Вечерние мотивы“ (нагие юноши, девицы, слушающие вместе с животными, Орфея, играющего на дудочке, 1892), „Девушка, играющая на лютне, — олень ее слушает“ (1898) и многие другие декадентские безобразия.