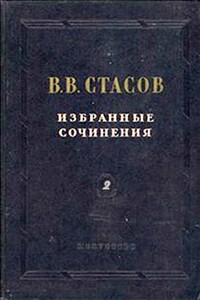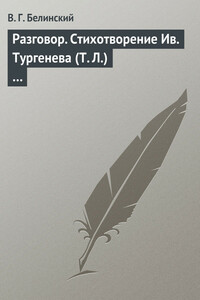Искусство девятнадцатого века | страница 55
Может ли быть что-нибудь более близорукое, чем заявление Мутера, будто бы Курбе повторяет, для своего времени и во Франции, то, что в XVII веке сделал для своего времени Караваджио в Италии? Караваджио имел только понятие о натурализме форм, о копировании их в действительности, и это, конечно, была великая его заслуга в такое время, когда искусство изнывало и таяло под бременем бездушного, искусственного, притворного академизма. У Караваджио не было никакого понятия, никакой заботы о самой жизни, о том, как существуют, как несправедливо несчастны, загнаны и заброшены эти самые люди, которых тела и внешность он прилежно изучал и рисовал. Он к корню дела, к существу дела был совершенно равнодушен, слеп и глух. Какое сравнение с Курбе, которого всего только и наполняла жизнь современного ему мужика и мещанина, его угнетенность и забитость, вечно практикуемые над ними несправедливость и беззакония и, как результат, отупелость одних из числа жертв, глупость, испорченность и нелепость других. Курбе писал не для искусства, не для прославления виртуозности, не для завоевания себе знаменитого имени, а для того, чтобы выразить, подобно Гогарту и Гойе старых времен, свой душевный стон, скорбь и боль. Тут не до Караваджио ему было, не до раздушенных аматеров и смакующих ценителей, а до души, чувства и понятия всех зрителей, от низу и до верху.
Так точно, какой же был Реньо последователь и наследник Делакруа, как пробует уверить Мутер? Для Делакруа не было никакого дела до сущности изображаемых им сцен и личностей. Была бы только картинна и эффектна задача, была бы ему только возможность проблистать своими прекрасными красками, как павлину парадным своим разноцветным хвостом, и он был удовлетворен и доволен, ему больше ничего не надо было. Писать ли «Гелиодора с ангелом, прилетевшим с неба» или ровно ничего собою не представляющих (но колоритных) восточных гаремных баб, сражение ли греков за независимость или «Аполлона со змеем Пифоном» — ему было все это равно, а с ним вместе и всей распложенной им по Европе бесчисленной школе подражателей. Разве что-нибудь похожее на это было в картинах Реньо? Когда он рисовал маршала Прима, перед толпой освободившегося от старинного своего ига испанского народа, и у них у всех, у всей этой толпы, да и у их маршала с ними вместе, душа была полна тревоги и волнения, радости и безумного счастья, у них (и у него тоже) лоб был бледный и мокрый, капельки пота струились по лицу от совершающейся трагедии — вот какие современные моменты и чувства писал Реньо взамену прежних фантазий. Когда же он изображал мароккского палача, великолепного зверя, но равнодушного раба, уже не способного размышлять и могущего только рубить головы, коль скоро велят, да обтирать потом свою саблю над повергнутым трупом, Реньо говорил своею картиною: «Смотрите сюда все, вот что такое ваш поэтический и несравненный Восток, так фальшиво, так идеально и выдуманно представленный вашими Делакруа, Деканами, Фромантенами и всякими другими! Сколько красоты и чудных красок природы, и какое глубокое озверение! Что значит века, проведенные в безумном рабстве!». Он это думал и высказывал кистью — какое же сравнение такого нынешнего, могучего мыслью и кистью человека с виртуозом Делакруа, не содержащим в себе ни единой крупицы XIX века! Этот последний точно человек, случайно заброшенный к нам из другого какого-то столетия.