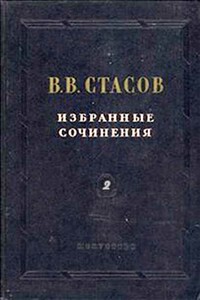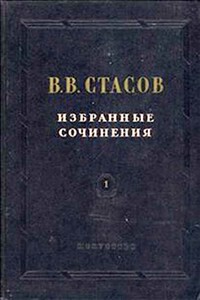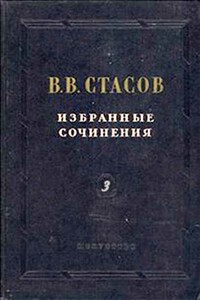Выставки. Обзор выставки русских и финляндских художников, организованная С. Дягилевым | страница 6
Уже гораздо выше стоит русская часть выставки. Но тут надо различать две половины: одна состоит из картин тех наших художников, которые, следуя нынешним модам, бросились, очертя голову, в Париж, уповая всей душой на его спасительную и возвышающую силу — подобно тому, как сотни, чуть не тысячи наших певцов и певиц, тоже очертя голову, толпами бегут в Милан, Рим или Неаполь, — но все кончается у них всех тем, что они ничего хорошего домой с собою не приносят, кроме разных иностранных банальностей и рутин, а что есть в Европе важного и хорошего — до того и не дотрагиваются. Ведь даже сам И. Е. Репин, столько советующий ездить художникам в Париж, писал: „Я видел работы многих учеников, приезжавших из школ Кормона, Бенжамен-Констана, Жюльена и других. Все они довольно однообразны и рутинны по приему. Правда, они не страдают ни дурным вкусом, ни грубыми ошибками. Все прилично, гладко, условно“. Это как раз относится к большинству и певцов, и живописцев наших, бегущих в Милан и Париж. Конечно, что-нибудь иной раз да получается; но всего чаще — игра не стоила свеч. Можно было большинству этой молодежи из дому и не трогаться вовсе. Что толку в той рутине (хотя бы даже отчасти красивой, но чаще ничего не стоящей), которую одну только они с собою сюда привозят? Право, лучше бы, просто-напросто, им всем, или почти всем, дома остаться. Так, например, стоило ли г-же Якунчиковой жить и учиться в Париже, чтобы рисовать нелепую декадентскую женскую головку, не то что рыжую, но просто с красными волосами, у которой под носом торчит какой-то цветок или орнамент, словно он выпал у ней из носу; стоило ли г. Сомову ехать в Париж и долго жить там, чтобы рисовать потом его „Радугу“, ужасно плохую уже и саму по себе, да еще плохую от тех плохих дам, которые прогуливаются под деревьями; или его „Август“, или „Прогулку“ с нелепой и безобразной кавалькадой, точно прямо взятой с стенных карикатурных афиш парижских улиц? Стоило ли г. Ф. Боткину ехать в Париж, там долго жить и учиться, чтобы потом рисовать свои „женские силуэты“ на оранжевых фонах, с безобразной орнаментикой из листвы вокруг, — совершенную рабскую копию с декадентских подобных же рисунков, сотнями и тысячами являющихся всякий день в Париже? Стоило ли г. Е. Лансере ехать в Париж и долго там учиться и жить, чтобы рисовать потом свои иллюстрации к „бретонским сказкам“ и свои „декоративные рисунки“, где человеческие фигуры торчат кривые и косые, без малейшей натуры, волны — в виде правильных ромбов мозаики, какие-то колоссальные оплывшие свечи в подземелье, то небывалые кусты и растения, все что уюдно, кроме того, что в самом деле на свете есть. Таких печальных примеров на нынешней выставке много. И над всем этаким-то декадентским хламом г. Дягилев является каким-то словно декадентским старостой, копит, отыскивает, „приглашает“, везет к нам в Петербург, со всех краев, и этому хламу мы должны кланяться, благодарить и веровать, что это-то и есть самое настоящее, нынешнее и будущее искусство?