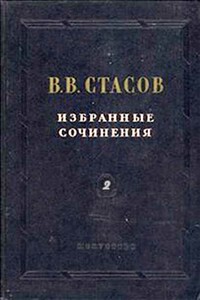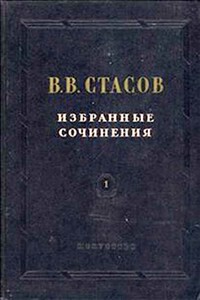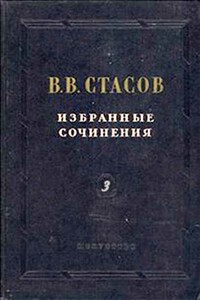Выставки. Обзор выставки русских и финляндских художников, организованная С. Дягилевым | страница 4
Нынешняя выставка навязывает нам, словно камень на шею, да в кулек, да в воду — множество такого, что ужасает, что просто никуда не годится.
Пять лет тому назад, в 1893 году, И. Е. Репин начал у нас свою проповедь «искусства для искусства» и гонение на «сюжет» и «содержание» в картинах. Это интересное учение нашло себе последователей. Может быть, иные из этих господ уже и помимо Репина принялись исповедывать этот самый культ, может быть, у иных из их числа у самих лежали в груди зачатки нежной страсти к «безмыслию» и «бессмыслию», к бессодержательности и бессюжетности — может быть! Может быть, они все уродились такими «эллинами», такими классическими греками времен до рождества христова, что для них только и есть на свете, что «красота», а на все прочее наплевать — пускай, пускай! Не станем в настоящую минуту спорить с ними — на то были у нас другие оказии, наверное будут еще иные впереди — оставим этих людей в их любезном заблуждении, согласимся на минуту, что никаких сюжетов для произведений искусства нынче уже не надо, что всякие задачи из истории и жизни не что иное, как чепуха, заблуждение и скука, что это все требования устарелые и никуда более не годные. Прекрасно! Но посмотрим, чем же все прежнее должно замениться, что именно предназначено в новейшее «наше» время стать на место всего, наполнявшего «прежнее искусство»?
Взглянем с одного конца выставки до другого, поищем глазами, чему дано первое, главное место в этой зале, что пользуется наивысшей симпатией распорядителя? Это — картина г. Врубеля, озаглавленная — «Утро. Декоративное панно». Картина эта огромна; она стоит на самом почетном, центральном месте всей залы. Но ведь тут нет не только и признака какого-нибудь «утра», но также и тени какой-нибудь «декоративности». От начала и до конца тут нет ничего, кроме сплошного безумия и безобразия, антихудожественности и отталкивательности. Дело происходит в лесу, но в таком лесу, где ровно ничего разобрать нельзя, кроме зелени, словно пролитой из ведра по холсту и размазанной щетками. Ни деревьев, ни ветвей, ни листьев, ни корней, ни разнообразных планов, ни перспективы какой-нибудь, ни близости, ни удаления — ничего подобного тут нет, а только находятся какие-то очень плохие женские фигуры, стоячие и лежачие, совершенно слившиеся с общим зеленым фоном и едва-едва различимые. Что это за женщины, на что они тут, зачем они так плохи, что собою изображают и, наконец, вообще, зачем они писаны, когда все дело только в том, чтобы их нельзя было видеть — кто разберет, кто объяснит эту неимоверную чепуху? Представьте себе человека, который набил бы себе полон рот каши, так что там внутри язык не может даже поворачиваться, и что ни говорит этот человек, вы ни единой буквы не разбираете. Переспрашивайте его, сколько хотите, все равно, ничего не поймете. Вот такова и картина г. Врубеля. Сколько ее ни рассматривайте, и прямо, и сбоку, и снизу, и сверху, пожалуй, даже хотя сзади — все равно везде одна чепуха, чепуха и чепуха, — безобразие, безобразие и безобразие. Казалось бы, для кого это писано? Кому этот неимоверный вздор нужен? Он, казалось бы, может только всех отталкивать. Но нет, под картиной стоит билетик: «продано». Как это поразительно! Й* есть на свете такие несчастные люди, которые могут сочувствовать этому сумасшедшему бреду, намерены приютить его в залах, в комнатах, пожалуй, в музеях? Изумительно! И это все надо считать движением вперед, усовершенствованием искусства, возвышением над тем, что прежде было!!