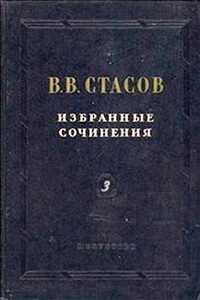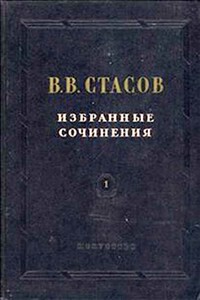О значении Иванова в русском искусстве | страница 45
„Идея нового искусства, — говорил он в Петербурге, в 1858 году, — сообразно с современными понятиями и потребностями, до сих пор еще не вполне прояснилась во мне. Я должен еще долго и неусыпно трудиться над развитием своих понятий — раньше того я не начну производить новые картины“ (биография, стр. XXXI). Конечно, мудрено и дерзко отгадывать душу художника, когда он и сам не мог дать себе ясного отчета в ее горячем стремлении; но все-таки, мне кажется, некоторые места из писем Иванова дают нам возможность до некоторой степени понять, куда направился бы его талант, останься Иванов жив и примись он, наконец, за те „новые“ картины, о которых он рассказывал еще в 1858 году. Еще в начале 1837 года Иванов писал Обществу поощрения художников: „Если я и сверстники мои не будем счастливы, то следующее за нами поколение пробьет себе непременно столбовую дорогу к славе русской, и потомки увидят, вместо „Чуда больсенского“, „Аттилы, побеждаемого благословением папы“ — блестящие эпохи из всемирной и отечественной истории, исполненные со всеми точностями антикварскими, столь нужными в настоящем веке“. В другом месте он объявлял, в 1858 году, что вполне одного мнения с публикой, которая, будучи не вполне довольна его большой картиной, требует „живого воскрешения древнего мира“. Вот чем он думал, вот чем он надеялся, повидимому, заменить прежние сюжеты и задачи рафаэлевские: „Чудо больсенское“, „Аттилу, побеждаемого благословением папским“, — воскрешением прежнего мира, воскрешением блестящих эпох всемирной и отечественной истории. Долго ему мешала в этом исключительно религиозная живопись, вложенная в него патриархальным семейством, старым Петербургом александровского времени и Академией. Но пришла такая минута, что приклеенная чужими руками шелуха лопнула и отвалилась, и Иванов потянулся жадным взором и рукой к тому, что составляло, в продолжение всей жизни его, весь интерес, всю жажду и стремление его ума — великие события всемирной и отечественной истории. И на этом новом пути он предсказывал успех, если не самому себе, то другим, будущим русским художникам, „готовящимся на большой путь искусства живописного“. Вот каковы были замыслы Иванова, вот каково было чудное, свежее, энергическое настроение этого пятидесятидвухлетнего человека, старого годами, но молодого духом, как никто из всех его товарищей!
Иванов не знал и не понимал того реалистического движения, которое в его время уже начинало существовать в художестве Европы, всего более во Франции. Французскую натуралистическую и вообще всю жанровую школу он называл „развратною школою парижскою“ и предостерегал от нее, в 1845 году, своего брата Сергея; тем менее мог бы он предвидеть, а потом и понять, если бы собственными глазами увидал произведения, успех и значение той могучей современной школы реализма, которая началась лишь в 50-х годах, а разрослась в Европе лишь в последние десять-пятнадцать лет. Иванов понимал одно художество — „монументальное“, и вне его не в состоянии был понимать что-либо еще другое. Потому-то художество, берущее себе задачи из ежедневной, будничной жизни, казалось ему мелким, ничтожным или „шуточным“. Но безумно было бы требовать от натуры, хотя бы и великой, того, чего в нее не было вложено и что ей было чуждо. И потому я только повторю те чудные слова, которыми в 1857 году приветствовал Иванова один из величайших русских писателей — Герцен: „Хвала русскому художнику, бесконечная хвала, — сказал он Иванову со слезами на глазах и бросившись обнимать его: — не знаю, сыщете ли вы формы вашим идеалам, но вы подаете не только великий пример художникам, вы даете свидетельство о той непочатой, цельной натуре русской, которую мы знаем чутьем, о которой догадываемся сердцем и за которую, вопреки всему делающемуся у нас, мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на ее будущность“.