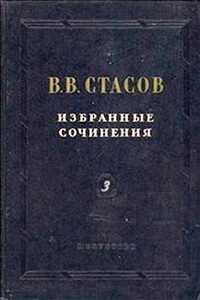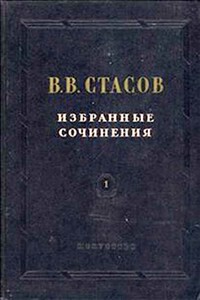О значении Иванова в русском искусстве | страница 40
Истинного типа Христа, верного исторически, Иванов с изумительной настойчивостью искал во всех старейших изображениях, живописных и мозаичных, а когда, наконец, остановился на некоторых византийских изображениях, и всего более на одной мозаике палермского собора, — то потом долго искал его же в живой натуре, наконец, нашел живой итальянский субъект (по странной игре природы — женщину), чьи черты лица, до некоторой степени, напоминали бы, издалека, черты палермской мозаики. Так было и с другими главными личностями картины, апостолами: Иоанном Богословом, Андреем и другими.
Таким образом, во всем своем создании Иванов поступал как глубокий и истинный реалист. Он не хотел ничего выдумывать, ни в чем фантазировать, как это обыкновенно делается: он прежде всего и более всего искал твердой прочной опоры истории, жизни, действительности. „Дурное все остается в пробных этюдах, — пишет Иванов Гоголю в 1844 году, — одно лучшее вносится в настоящую картину“. Все остальное — выражение, глубокий внутренний смысл, глубокое содержание — были ему подсказаны великою и широкою его душою, и таким-то образом вышло, что уже и ряд бесчисленных многолетних этюдов Иванова составлял бы великую, необычайную картинную галерею, полную первоклассных красот. Но картина, совокупившая, как в сжатом фокусе, все лучшее из лучшего, собранное, словно драгоценные жемчужины, многими годами, представляет такое соединение необычайных достоинств, которое не превзойдено никаким на свете живописцем одного с Ивановым рода и направления.
Смело можно сказать, что во всей европейской живописи не существует другого подобного Христа, как Христос Иванова, — как по своей величавости, простоте и глубокой душевности, так и по всем собственно художественным совершенствам исторически-типичного и в высшей степени оригинального изображения.
Точно так же во всем европейском искусстве нет другого Иоанна Крестителя, равного Иоанну Крестителю Иванова: дикая красота этого пророка пустыни, вдохновение, горящее в его глазах и приподнимающее вихрем косматую гриву на голове, могучий жест указующей руки, могучая поступь и поза — все это своеобразно, ново и поразительно красотой и выражением более, чем все до сих пор существовавшие на свете изображения Иоанна, грозного проповедника покаяния.
Стремительный, полный женственной красоты и юношеского жара Иоанн Богослов, исполненный кроткой благости старец Андрей, фарисеи, косящиеся в бессильной злобе и мечущие лютые взгляды, уверовавшие старики — и молодые, зрелые мужи, и мальчики-красавцы, упорные в старой вере упрямцы, которых явно ничто на свете не сдвинет с их неподвижной точки, богатые сибариты с изнеженным телом — и их клейменые рабы, вдали несколько любопытных и робких женщин в восточных чадрах, — наконец, целая толпа равнодушных и безучастных, радость и пробуждающаяся надежда на счастье и новую жизнь, равнодушие, любопытство, злые души — вот какие богатые, бесконечно разнообразные элементы нарисовал Иванов в своей картине. Как он здесь вырос, в сравнении с прежним Ивановым, — тем, что принимался за эту картину в 1836 году и набрасывал что-то довольно, пожалуй, и изящное в общем, особливо в колоритном ландшафте и далях, но Ивановым, который все еще оставался наполовину академическим Пуссеном с условными позами и жестами, немножко даже банальными мотивами фигур, положений, лиц и костюмов (см. первоначальный эскиз картины, описанный Ивановым в отрывке из записной книги 1836 года).