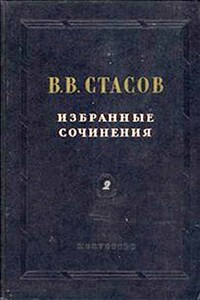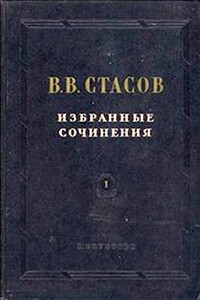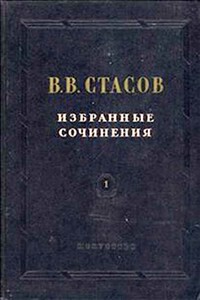Модест Петрович Мусоргский | страница 24
Я уже рассказывал выше, какой великий мастер был Мусоргский как аккомпаниатор и певец-декламатор. Много раз уже и тогда, да и впоследствии мы между собой на наших маленьких сходках и собраниях говаривали, что в этом он решительно единственный, ни с кем не сравненный. Даже такой, совершенно выходящий из ряду вон пианист, как А. Рубинштейн, равнялся с ним разве наполовину: они с одинаковым совершенством аккомпанировали гениальные романсы Шумана, Шуберта и другие подобные же высокие произведения общеевропейской, идеальной и правильной музыки, но у Мусоргского была еще другая половина, недоступная ни для Рубинштейна, ни для всякого иного общеевропейского музыканта: это сторона музыки национальной и специально тех глубоко народных, совершенно новых и на манер Гоголя реальных сцен и картинок, о которых я только что говорил. Тут уже Мусоргский был в своем особенном, новом и оригинальном царстве, куда за ним не мог проникнуть никакой музыкант общеевропеец.
Но к его счастью (а также к счастью всей его компании товарищей-композиторов), к их кружку присоединились около середины 60-х годов две личности, которые в исполнении именно этих национальных, исключительных созданий новой русской музыки сделались близкими его последователями, товарищами и помощниками. Это были две молодые девицы, необыкновенно талантливые, Александра и Надежда Николаевны Пургольд, первая- певица, вторая — фортепианистка. С самых ранних лет детства они находились постоянно в высокомузыкальной среде: их дядя, В. Ф. Пургольд — и сам в молодости певец на собраниях Даргомыжского — был очень близок с этим последним, и молодые две его племянницы с самых ранних лет, раньше даже всякого систематического и технического учения искусству, привыкли слышать все только одно глубоко правдивое исполнение самим Даргомыжским его и глинкинских созданий: с одною из них Даргомыжский постоянно проходил лучшие русские романсы, доискиваясь наибольшей правды, простоты и естественности выражения, с другою постоянно играл в четыре руки все, что есть лучшего в музыкальных созданиях нашего века. При талантливости обеих сестер такое ученичество под руководством Даргомыжского должно было принести чудесные результаты. Даргомыжский всегда высоко ценил их (в его письмах из-за границы 1864–1865 года, мною напечатанных в «Русской старине», сохранились его отзывы об одной из сестер). Позже, когда у Даргомыжского они познакомились с Мусоргским и с остальною «балакиревскою компаниею», они пошли в своем развитии еще дальше, еще выше. Из них образовались две такие художницы, каких наверное не было еще раньше их между русскими женщинами-музыкантшами. И Глинка, и Даргомыжский были всегда окружены целой толпой певиц-любительниц и фортепианисток, исполнявших в интимном кружке, а иногда и в публичных концертах их романсы и арии. Несомненно, между ними была не одна с истинным дарованием, с симпатичностью выражения, с увлечением и огнем, с неподдельным чувством или грациею. Но ни одна из них (я имею все право сказать это — я всех их переслушал на своем веку у Глинки и у Даргомыжского) даже издали не подходила, по талантливости и глубокому музыкальному чутью, к сестрам Пургольд. Те все дальше «любовных романсов» и «любовного выражения» не ходили в своем пении.