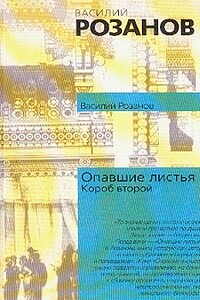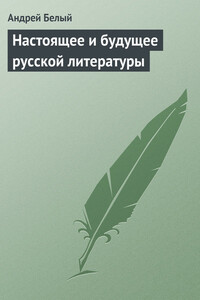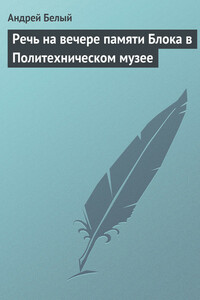Еще о смерти Пушкина | страница 5
Это — не к нему, не к Пушкину обращено; могло бы обратиться к «Лидину», а за неимением его — вообще отсутствует. Да — нет, и только. Нет смеха; но вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин им не был. Начертав эти стихи, он, конечно, конечно, понимал, что… ничего-то, ничевохенько общего между ним и женой — нет, и что тут — не ее вина (слова его о ней в день смерти: как он ее ценил!), а уж если и есть чья, то, после Бога, устроившего законы мира и бросившего солнце в свой путь, луну — в свой же другой, то еще вина — его, Пушкина, не нашедшего в мире своих путей или не пошедшего по своим путям. Да, как Перцов объясняет, «вина» — Пушкина, и именно здесь — в сфере «своего дома».
Пушкин был решительно груб с «Наташей» (да будет прощена дерзость так ее назвать). Он мог гениально ее ценить, но создать и выжать из себя форм обращения и быта, бытья, «житья-бытья» с той, о которой он записал первые, ранние впечатления:
В письме к жене, приведенном г. Рцы[1], Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.
«Наташа» получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спаленки девушки, — увы, и в замужестве девушки:
Да, и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, умерла девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия
в девстве и девственнице, то должна была настать и святость супружества, святость материнства:
«Я не знаю, я не понимаю, я неопытна, однако тоже, перефразируя стихи поэта,
Она могла этого не написать, но она могла это почувствовать и даже, так сказать, практически к этому приуготовиться; как он мог написать, но вот практически-то к этому приуготовиться и не мог! Не тот тон. Совсем другие речи. И в основе всего — просто не тот возраст и не то «прошлое, прошлое!» — которого «не вернуть!». Пушкин в 16 лет написал — и с странным, страстно-нежным тоном в заключительной строке — «Леду», — сюжет, который, ей-ей, я узнал и он мне пришел в голову за 30 лет! Таким образом, этот маленький «Эрос», который мы называем Пушкиным, «зрелым» почти родился и дальше все «зрел» и «перегорал».