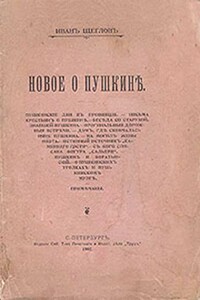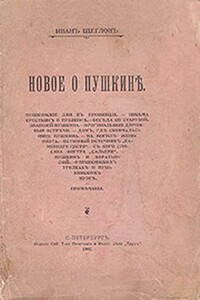Корделия | страница 39
Некоторое время длилось томительное молчание с обеих сторон: Марту, очевидно, тяготило какое-то воспоминание, о котором она сдерживалась высказаться, я же был донельзя удручен всем тем, что мне пришлось от нее услышать и угадать из недоговоренного. Одно искреннее признание Марты в какие-нибудь четверть часа в сто раз ярче осветило мне изнанку жизни, чем все трехлетние наставления матери и вся мудрость школы. Посреди этого проникновенного молчания, где-то около, в столовой вероятно, часы пробили два. Марта очнулась и торопливо стала оправлять свою прическу.
— Ах, боже мой, уже два часа! С хорошими людьми не видишь, как время летит… Не может быть, чтобы два?
От меня не укрылось ее беспокойство, и я поднялся с места…
— Вы кого-нибудь ждете?
Она тревожно поднялась.
— Да, костюмер должен прийти… нужно примерить костюм для новой оперетки! — произнесла она, запинаясь, и, чтобы смягчить прозрачный намек на излишество моего присутствия, добавила: — Я с вами не прощаюсь, мы, наверное, еще увидимся: от часа до двух я всегда дома…
— Едва ли увидимся… я еду сегодня вечером!
— Так-таки непременно сегодня?
— Я должен спешить, летние театры уже открылись…
Нейгоф грустно на меня посмотрела и положила мне на плечи свои руки. Глаза ее теперь искрились материнской нежностью.
— Знаете, что я вам скажу, Сакердончик? — проговорила она участливо. — Что бы вам, вместо Петербурга… вернуться обратно, в богоспасаемую Керчь… пока еще не поздно, пока вы еще не отравлены закулисным воздухом… А как матушка бы вам обрадовалась! И зажили бы вы тихо, мирно, нашли бы себе какую-нибудь простенькую барышню, женились бы… Право, дорогой мой, это было бы лучше — сделаться счастливым мужем в жизни, чем несчастным любовником на сцене. Что вы смотрите так исподлобья, точно обиженное дитя?.. Это по-вашему немыслимо! То разве сильнее?
— То сильнее!
— Ну, в таком случае, прощайте… Счастливого пути… и всяких успехов!
Сердце мое забилось сильно, сильно, глаза увлажнились слезами.
— Хотите, может быть, я вам дам на память мой портрет? — добавила она ласково, явно тронутая моей печалью.
— И вы спрашиваете!
Марта на минуту задумалась.
— Постойте, какой бы вам дать?.. А, впрочем, идите сюда, выберите сами…
И она ввела меня в свой будуар.
Я — в будуаре любимой женщины, актрисы, вдобавок еще опереточной… Кровь дерзко заволновалась во мне, и с моей стороны стоило большого усилия, чтобы не выдать порыва наружу. Пока Марта рылась в маленькой шифоньерке, я быстро оглядел комнату. Комната была небольшая, в два окна, кокетливо отделанная голубым ситцем. Драпировка, скрывавшая кровать, была голубая, обивка стульев, дивана и туалета, портьеры на окнах — все голубое… На диване было раскинуто пышное, розового атласа платье, отделанное серебряным позументом и блестками — вероятно, костюм для вечернего спектакля, на окнах — цветы в фарфоровых горшочках; в углу, на этажерке, валялся тоскливо букет белых камелий. В комнате ощущался острый запах каких-то модных духов и слегка кружил голову.