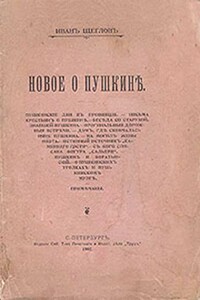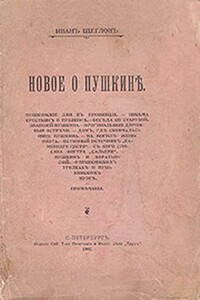Корделия | страница 13
— Послушайте, Корделия, — начал я и остановился. — Вы меня извините… вы не сердитесь… Ведь можно вас называть Корделией?.. Мне так гораздо поваднее, чем называть вас Мартой Васильевной!
— Разумеется можно, раз я вас называю Сакердоном… и если это «поваднее»!
Она засмеялась и обернулась в мою сторону.
— Послушайте, Корделия, вы такая добрая, вы такая хорошая… и неужели вы до сих пор ничего не замечаете, что со мной происходит?
Она опять засмеялась, но уже не обернулась.
— Представьте, я такая добрая, я такая хорошая… и ничего не замечаю!
— Да поймите же, я ведь страдаю… я мучусь как никто… вот так, кажется, сейчас бы вылез из саней и бросился в прорубь… До того мне тяжело!
— Полноте, Сакердончик, что вы такое говорите?.. Кто же кидается в прорубь после успеха на сцене!
— Не упоминайте мне об этом успехе, ради бога, ни слова… Я стыжусь его!..
— Ну, теперь я вас совсем не понимаю. Разве не вы сами говорили, что сцена — единственная цель вашей жизни?
Вся кровь бросилась мне в голову.
— Вовсе не единственная, — глухо проговорил я. — И потом, если я могу быть актером, то из этого еще не следует, чтобы я стал ломаться на потеху толпы… Я искусство понимаю совсем иначе… Да впрочем, теперь для меня важно и не искусство, и не мой ненужный успех… а совсем другое… без чего моя жизнь все равно омертвеет и станет бесцельной…
— Что же это такое? — спросила Нейгоф недоумевающим голосом и зябко окунулась в свою лисью ротонду.
— То, чего я пока не могу вам сказать… то есть не имею права… не смею…
— Говорите… я вам позволяю, — послышался голос из ротонды.
я не решался и поджидал, пока сани доехали до часовни Николая Чудотворца; тогда я поднял воротник теплой шинели, незаметно под ним перекрестился и тихо прошептал:
— Я вас люблю, Корделия!
Я не знаю, открещивалась ли Корделия под своей лисицей от моего непрошенного признанья, но несколько минут она хранила упорное молчание. Когда сани приблизились к Среднему проспекту, она вдруг вынырнула из ротонды, весело меня оглянула и прощебетала с тем добродушным юмором, которым она умела смягчать самые жестокие приговоры:
— Ах, Сакердончик, какой вы глупыш… Что вы говорите… Разве вы не знаете, сколько мне лет?
— Я не знаю… я думаю — девятнадцать…
— Еще не вступно, — ответила она томно, имитируя мою сегодняшнюю любовную игру.
— Что же из этого следует?
— А следует то, милый Сакердончик, что мне еще слишком рано знать такие страшные слова, как «я вас люблю, я вас обожаю, я кинусь из-за вас в прорубь» и т. п. Так думает maman по крайней мере, а вы знаете, как я ее во всем слушаюсь!