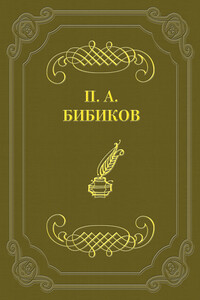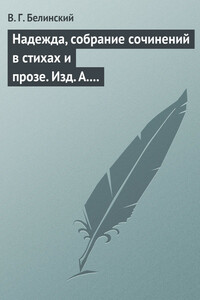Творчество и критика | страница 75
Когда умер Д. Мережковский? Или он был изначально мертв? В самых первых его книгах есть еще хоть словесные порывания к жизни; он восклицал тогда-
Он хотел тогда бороться, действовать, жить (I, 73); он убеждал себя и других-
Ему хотелось всей полноты жизни-«всей дивной музыки аккордов мировых» (I, 15,-какая банальщина!). Но тут-же какой-то черный жук-могильщик вел в его душе свои подкопы, протачивал его душу, отравлял ее:
В первом, втором и третьем томе его стихотворений (1883–1895 г.) словно присутствуешь при борьбе живого человека с каким-то упырем, который высасывает из него кровь. И мы слышим, как живой человек кричит: «пока есть капля крови в жилах, я слишком жить хочу, я не могу не жить!» И тут-же-слабость, изнеможение, сознание, что грозят «дни, месяцы, года тяжелой, мертвой скуки» (I, 52). И, наконец, признание:
Гробовой червяк все больше и больше протачивает душу Д. Мережковского. В стихах появляются его эпитеты, единственные принадлежащие ему-и мы знаем, что эти эпитеты-«мертвенный» и «могильный» в разных комбинациях: мысль его уже направлена в эту одну сторону. «Синее небо-как гроб молчаливо»; «в сияньи бледных звезд, как в мертвенных очах-неумолимое, холодное бесстрастье»; «мертвенное небо»; «как из гроба, веет с высоты»-все это у Д. Мережковского свое, незаимствованное (I, 96-101). И хотя не один еще раз вопил жадным голосом Д. Мережковский: «жить, жить!», но голос этот становился все слабее и слабее; ему, как чеховскому Чебутыкину, становилось «все равно»: он чуствовал, что «все замерло в груди… Лишь чувство бытия томит безжизненною скукой» (I, 99). Призывы жизни становились для него мучительными: