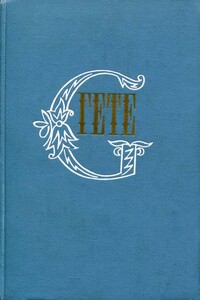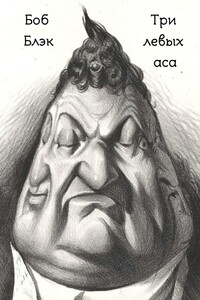Творчество и критика | страница 58
Я взял очень резкий пример, но тысячи подобных можно указать по всех произведениях Д. Мережковского. И это крайне характерно: мы воочию видим процесс ледяной игры разума, складывания из льдин разнообразных фигурок. Слово само по себе-мертво; оно получает трепетание жизни только тогда, когда идет из глубины души человека. Когда из переживаний рождается связь слов, это-живой организм; когда из слов рождаются понятия, это-мертвая игра разума. Можно точить и обтачивать слова и быть великим воплощением жизни. Так Пушкин, набросав начерно вылившееся из души стихотворение, прилагал громадный труд, чтобы из живого, но еще бесформенного наброска создать соразмерное и попрежнему живое творение; так А. Ремизов-чтобы взять современный пример-громадным трудом рождения, собирания и вытачивания слов достигает вершин поэтического творчества. Но можно также вытачивать слово за словом, фразу за фразой и сделать красивую вещь, не заботясь о духе жизни. И эта способность тоже не всякому дана; это особые дар не творчества, а мастерства. Творчество всегда исполнено трепетом жизни; мастерство же, идущее от слов к понятиям, всегда может быть только мертвым. Но и в этой области мертвого мастерства могут быть разные степени дарования; Д. Мережковский в этом смысле принадлежит к достаточно крупным мастерам. Он не художник, ибо всякий художник есть творец, ибо над всяким милостию Божией художником веет дух жизни; но в своем мертвом мастерстве Д. Мережковский достиг значительного искусства. Читая его «трилогию», ясно видишь, как искусно обтачивается и прикладывается льдинка к льдинке, как соразмерно проявляются антитезы лиц и положений, как из всего этого возникает если не живая красота, то по крайней мере мертвая красивость.
«Каламбурное мышление» с одной стороны, «власть слова»-с другой: на них построено все мастерство Д. Мережковского. Приводить примеры было бы и скучно, и утомительно, и бесполезно: достаточно указать на власть слова-власть цитат над этим писателем. Вечные, бесконечные цитаты! Не он ими, а они им владеют. Интересно было-бы подсчитать (громадный труд!), сколько раз герои Д. Мережковского-т.-е. он сам- сколько раз они «вспоминают» но любому мелкому поводу чужие слова, цитаты, евангельские тексты и т. д. Если хотите видеть типичный пример-просмотрите последние страницы четвертой главы девятой книги «Петра и Алексея»: там автор, спрятавшись за манекенного Тихона, вспоминает, не давая бедному читателю ни отдыху, ни сроку, целый ряд цитат из Ньютона, из Брюса, из Писания, из Леонардо-да-Винчи-и все это связано словесными ассоциациями, сшито белыми нитками каламбурного мышления. И таких примеров десятки, сотни! Другой пример той-же «власти слова» над Д. Мережковским: типичные для него «обращенные фразы»-обращенные кстати и некстати. Святая плоть- бесплотная святость одухотворение плоти-воплощение духа; бесплотная духовность-бездушная святость; воплощаемый Бог-обожествляемая плоть: умерщвленная плоть-мертвая плотскость: какая поистине это ледяная игра разума! Из двух-трех льдинок складывает холодный Кай нее те-же, все те-же слова-и никак не может только сложить самого простого: любовь к людям. И это без конца, без предела, настойчиво, холодно, утомительно. Так и мелькают на страницах «преступная мученица» и «добродетельный палач», «раздвоенное сознание» и «бессознательное раздвоение», «неразумный Бог» и «безбожный разум»; или: «начали богословием, кончили сквернословием», «начали гладью, кончили гадью». Или еще сложнее: «у Л. Толстого мы слышим, потому что видим: у Достоевского мы видим, потому что слышим»; «потому-ли он ни на кого не похож, что болен, или потому болен, что не похож ни на кого?» И так далее, и так далее, без перерывов, без конца, строго следуя знаменитой формуле: