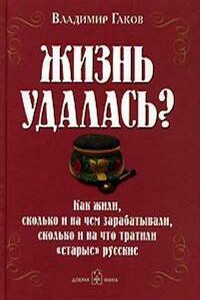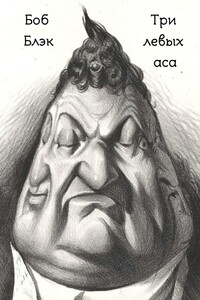Творчество и критика | страница 56
Так было с самого начала, так это продолжается и до сих пор, в течение тридцати лет литературной деятельности этого писателя. Характерно: еще в первом стихотворении первой книги Д. Мережковского мы находим настойчивые самоубеждения автора: «не презирай людей!.. Войди в толпу людей и оглянись вокруг!.. Сочувствуй горячо их радостям и бедам, узнай и полюби»… (I, 7). Но тут-же поэт чувствует, что все эти самоубеждения бессильны, напрасны, тщетны, что не удастся ему взвинтить себя до пафоса любви к людям, любви к человеку. Любить «весь род людей во мгле веков» (I, 19) — это еще куда ни шло, да это и не трудно; но любить живого человека!.. И поэт откровенно сознается в своем бессилии:
Приведенные стихотворения относятся к началу и середине восьмидесятых годов, и с тех пор вот уже тридцать лет повторяет Д. Мережковский эти мотивы с упорной безнадежностью. То он признается: «я людям чужд» и просит небо, чтобы оно дало ему быть «лучезарным, и бесстрастным, и всеобъемлющим»… (III, 23); то он заявляет: «полно мое сердце такого бесстрастья, что любить на земле никого не могу» (III, 70); то огорчается, что на земле «душа должна любить и покоряться вечно»; то мечтает, стоя на холодных альпийских вершинах: «о если-б от людей уйти сюда навеки»… (III, 72); то еще раз сознается:
то рассказывает нам, как даже в детстве «не людей бесконечной любовью-я Бога любил и себя, как одно» (IV, 69). Иногда он готов молить Бога о ниспослании ему этой любви к людям: «о, дай мне чистую любовь, о, дай мне слезы умиленья!» (III, 44), но тут же он молится и о другом: «очисти душу мне от праха, избавь, о Боже, от любви!» (III, 38). И снова перед нами-заключительное сознание человека, лишенного снособности любить людей и даже страдающего от этого:
Все это очень и очень верно. Вот только разве одно: кровью-ли исходит сердце Д. Мережковского?
Христос, распятый на кресте, «прободен бысть» и истекал кровью; так истекает кровью сердце каждого, кто носит в душе великую любовь к людям и видит все горе человеческое, — и много на свете таких крестовых сестер и братьев. О, как хотел бы, наверное. Д. Мережковский приобщиться к этому человеческому страданию и тем самым подойти ко Христу, имя которого он может только употреблять всуе! Нет Христа там где нет любви; и участь Д. Мережковского-истекать не кровью, а словами. В этом-трагедия всей его деятельности. И эта бесплодная слово точивость, которою Д. Мережковский тщетно пытается «заговорить», обмануть сам себя-очень характерна для человека с оледеневшим сердцем: именно в такую форму «словоточивости» только и может вылиться мертвое мастерство ледяного Кая. Как говорит в романе Д. Мережковского римский эрудит Гаргилиан-«litterarum intemperantia laboramus»… Мы страдаем от словесной невоздержанности. Да, да, вот наше горе… Опять спрошу: думал-ли Д. Мережковский, что и здесь он говорит о самом себе? Быть может думал, быть может сознавал; по крайней мере в одной из позднейших статей он чистосердечно признает: «мы все-эпигоны, последыши, александрийцы; слово для слова, а не для дела-вот наша бледная немочь» (XVIII, 22).