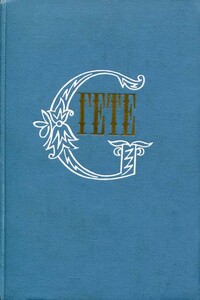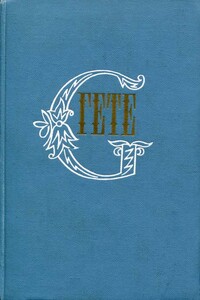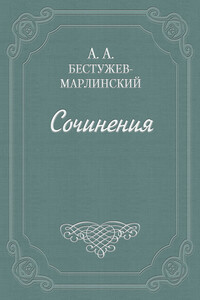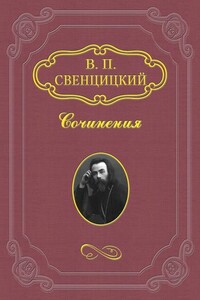Творчество и критика | страница 47
И то, как он любит и принимает слова, показывает воочию, как он принимает и любит жизнь. Прочтите «Посолонь»-какая прозрачная нежность! И как просто, казалось бы, она достигается! Просмотрите там «Кострому»-все построено на уменьшительных именах. Но попробуйте, не будучи художником, прибегнуть к этому же приему: посмотрите, какое получится противное сюсюканье! Или прочтите в «Лимонаре» апокриф «Гнев Илии Пророка»-многое ли вы найдете равного по изобразительности, по достигнутой силе, во всей русской литературе? Последуйте за автором «К Морю-Океану»-и вы увидите, как подлинная жизнь переливается и искрится во всем, к чему ни прикоснется рука художника. Возьмите, наконец, «действа»-и вы увидите в них не опостылевшую всем «стилизацию», а подлинное художественное воскрешение, нечто единственное в этом роде во всей русской литературе. И после всего этого-перейдите вдруг к «Крестовым сестрам» или «Пруду», где с тем же остро-отточенным оружием стиля автор проникает в глубь души современного живого человека.
Да, недаром А. Ремизов прошел в свое время через «декадентство». Все завоевания его он сохранил и удержал, во многом сам проложил вперед дорогу; но он сумел преодолеть в своем творчестве все то, что привело в конце-концов «декадентство» к вырождению и оскудению. В стиле и манере «Пруда» пишут теперь только эпигоны декадентства; характерный пример-роман Ивана Рукавишникова, «Проклятый род» (1911 г.). Дешевые эффекты, бывшие десять лет тому назад новыми, нарочитая изысканность, изломанность чувства и стиля-все это стало теперь доступным бесчисленным эпигонам декадентства. И как раз в это самое время тонкий и глубокий художник, А. Ремизов, сознательно идет к все большей и большей, безмерно более трудной простоте линий и формы. Интересно сравнить редакцию собрания его сочинений 1911 года с первоначальным текстом тех же произведений: ценнейший материал для изучения психологии и эволюции творчества! Сравните «Часы» или «Пруд» первых изданий (1905 и 1907 г.г.) с текстом этих же романов в собрании сочинений-почти ни одна фраза не осталась без изменений, некоторых страниц узнать нельзя. К изучению всего этого когда-нибудь еще вернется история литературы.
Но и теперь уже ясен облик этого художника, так любовно ищущего старых и новых слов, так горько ненавидящего мир и жизнь, так искренно благословляющего и мир и жизнь великим благословением. Не понимая, он принимает и жизнь, и мир; но кто принял-тот понял, если не разумом, то внутренним чувством. Распинатели и распинаемые, обезьяны и «Святая Русь», вся жизнь «до травинки» и тяжкая крестная ноша-соединены в творчестве А. Ремизова в одно целое, ибо так соединены они и в самой жизни.