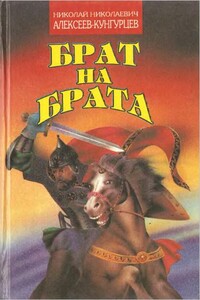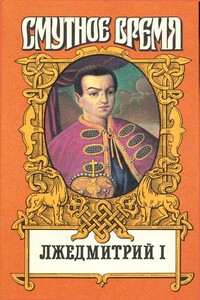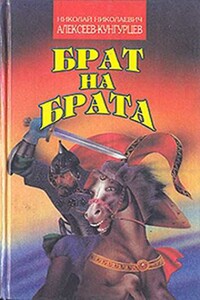Брат на брата | страница 16
На мгновенье луна вырвалась из-за облаков и озарила ехавшего.
Он молод. Ему лет тридцать, не больше;
Плечи широки, стан крепок. Для злых людей — он не легкая добыча: сможет постоять за себя.
Лицо, окаймленное темно-русой бородкой, красиво, но бледно и угрюмо.
Брови сдвинулись, а глаза вспыхивают недобрым огоньком.
Если бы встретился москвич, то без труда признал бы в ночном путнике богатого купца прозвищем Некомат Суровчанин.
Тот же встречный, конечно, подивился бы:
— Что ему здесь надобно?
Удивление москвича было бы тем более понятно, если мы поясним, что путь-просека вел ни более, ни менее как только к мельнице некоего Хапилы, пользовавшегося недоброй славой колдуна.
Чтобы объяснить читателю смысл путешествия Некомата, мы должны оставить его продолжать путь к колдовской мельнице, а сами вынуждены взглянуть на жизнь купца Суровчанина вообще и, главным образом, на те события, которые разыгрались в доме Некомата всего несколько дней тому назад.
Итак, забудем на время про его поездку и перенесемся в усадьбу, окруженную добрым тыном, за которым, куда глаз ни глянь, раскидывались поля и луга, окаймленные вдали темной полосой леса…
…Ясное осеннее утро.
Некомат стоит у окна и смотрит на окрестности.
Поля со щетиною сжатой ржи, луга с сильно поднявшейся отавой. Дальше лес с темными пятнами хвои и желтыми и красными набросками отживающей листвы.
Вились думы:
— Ишь, земли! Глазом не охватишь. Тут тебе и луга, и поля, и бор… Бо-о-гатство! Сена к Петрову дню что накашиваем! А хлеба сбираем, а овса… Уйма! Да еще старания, какого нужно, не приложено. А постараться, — приглядеть здесь-там, пораньше встать, попозже лечь — огребай добро лопатами! Э-эх! Было бы мое, сумел бы постараться. А так, чужое-то обхаживать, кому охота? Честь-то все равно одна будет: пройдет мало времени — помелом погонит. Мне бы пока что хоть малую толику припрятать… Люди думают: Некомат гость богатый, большой торговый человек… Знали бы они, что я только пасынковым добром и дышу. Сполнится ему двадцать годов, все он и заберет. И останусь я чист молодец. Плохо распорядилась покойница, что говорить. Обидела меня. Его, говорит, отец наживал, так ему всем и володеть. А все толковала, бывало, «муженек любимый». Вот те и любимый.
Угрюмое лицо Суровчанина покрылось пятнами от желчного волнения. В тусклых, впалых глазах сверкнули злые искорки. Он нервно бороду дернул и отошел от окна.
— Грехи одни! — пробормотал он, прохаживаясь. — Кабы отделаться от этого царнишки. А-ах кабы!