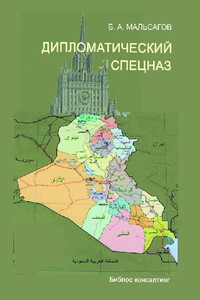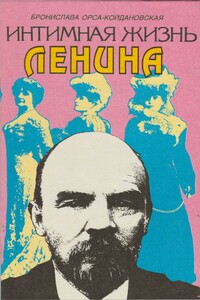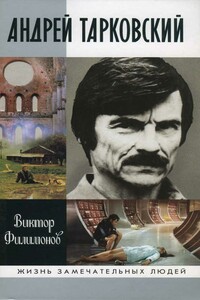Космос – место что надо. Жизни и эпохи Сан Ра | страница 13
Закрытые общества устраивали ежегодные балы, которые представляли собой хорошо подготовленные мероприятия; это были демонстрации элегантности и достоинства, на которых фабричные рабочие могли вращаться в одном кругу с небольшим числом юристов и врачей (кстати, некоторые рабочие временами зарабатывали больше профессионалов). Вечером работники ручного труда могли предстать весьма уважаемыми личностями. Подобно новоорлеанским Krewes — предшественникам Mardi Gras — эти балы начинали готовиться за несколько месяцев, и в недрах чёрной общины вырастали профессиональные костюмёры, декораторы, осветители и хореографы, отвечающие требованиям этих представлений. Каждый бал был тематически привязан к какой-нибудь современной популярной песне, а гвоздём вечера был «Специальный Клубный Номер» — театрализованное представление членов клуба. Например, в 20-х гг. в элитном «Клубе Теней» члены клуба появлялись из-за освещённого экрана: их выходу предшествовали их собственные тени, под музыку "Me And My Shadow" — хита Теда Льюиса 1925 года. Эффект был ошеломительный, хотя наиболее прогрессивные члены общины поговаривали, что это сомнительный выбор — Льюис (белый) пел и танцевал эту песню с Эдди Честером (чёрным), тенью повторяя все его движения. Как-то раз выход членов «Рыцарей Пифий» происходил под песню "Stairway To The Stars", при этом они спускались с потолка и звёзды просвечивали сквозь их волосы.
Клубные танцы были более влиятельным бирмингемским развлечением, чем ночные клубы. «Я играл в социальных клубах», — вспоминал Герман:
У чёрных были свои социальные клубы — люди арендовали помещение, собирались там, и каждую неделю устраивалось что-нибудь такое: смокинги, еда, питьё. Это было совсем другое общество. Оно находилось в белом мире, но люди собирались вместе, и они были красивы. А когда я стал ездить в другие города, там не было того, что в Бирмингеме. Там были таверны и всё прочее — ночные клубы — к чему я не привык.
Чёрные оркестры сами по себе были величественными и элегантными витринами, а поскольку некоторые из них пользовались в белых дорогих отелях и загородных клубах не меньшим спросом, чем в чёрных клубах, им сопутствовала аура признания, в какой-то мере защищавшая их от неуважения в повседневной жизни. На сцене музыканты были одеты в щегольские костюмы с иголочки, накрахмаленные рубашки и лакированные туфли. Барабанщики сидели посреди блестящей «листвы» тарелок и гонгов, а пластики их бас-барабанов были разрисованы тропическими картинами и слегка подсвечены сзади. Лучи прожекторов отражались от сверкающей меди в дымном тумане, создавая ощущение фантасмагории, полностью преображавшей вечер для тех, кто днём работал у доменных печей Бирмингема и Бессемера. Музыка могла быть прочной стеной звука, когда все голоса сливались в один; бывало и так, что какая-то отдельная секция — тромбоны, трубы или саксофоны — внезапно уходила в «автономное плавание»; музыканты поднимали и раскачивали свои инструменты в хореографической постановке на фоне других секций, дублируя своими движениями музыкальное развитие. Солисты вставали из-за анонимных стоек, выходили к микрофону и демонстрировали свой персональный стиль; целые теории о природе чёрной мужественности опровергались одним-единственным блюзовым припевом. Позади солистов звучали убедительные инструментальные риффы и словесные возгласы похвалы и поддержки. Эти ансамбли были примерами того, как возможно оставаться личностью в условиях требований абсолютной групповой дисциплины и единства; это были утопические образы расового коллективизма. Это была утончённая жизнь, полная гордости за своё мастерство, жизнь, смеющаяся над социальными ограничениями, наложенными на музыкантов.