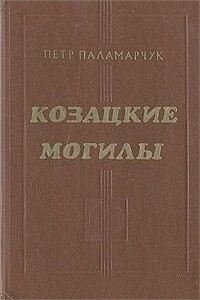Александр Солженицын: Путеводитель | страница 19
Приведём в качестве наглядного образца начало главы «Тюрзак»: «Ах, доброе русское слово — острог — и крепкое‑то какое! и сколочено как! В нем, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И все тут стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже метель в глаза, острота затесанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где‑то рядышком тут прилегает, — а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!» (V, 441)
Этот язык оказывается достойным средством, подходящим для описания трагедии, которую Россия ещё не знала в своей истории ни по глубине, ни по размеру. Счёт ведь шёл уже не на миллионы, а на десятки миллионов погубленных жизней — а затем он перевалил и за сотню. Достоевский ещё в прошлом веке предсказал, что революционные опыты станут стране в сто миллионов душ. Менделеев на заре нынешнего столетия вычислил, что к его середине населения в государстве будет на сто миллионов больше, чем оказалось на деле. Наконец, как просчитал ленинградский профессор статистики И. А. Курганов— Солженицын приводит эти вызывающие оторопь цифры во втором томе «Архипелага» (VI, 12), — с 1917 по 1959 год потери на внешнем фронте составили 44, а на «внутреннем» (включая дефицит от пониженной рождаемости) — 66,7 миллиона человек; то есть всего 110!
Недаром М. П. Лобанов начинает свою знаменитую статью «Освобождение» такими словами: «Сам исторический опыт, пережитый нашим народом в XX веке, опыт ни с чем не сравнимый по испытаниям и потерям, перевернул многие предшествующие представления о ценностях, в том числе и о литературе. Этот опыт превзошёл все, что только могло быть предсказано в прошлом, в том числе и все произведения Достоевского… Герои самого Достоевского типа умника Ивана Карамазова быстро бы образумились, оказавшись рядом.., и задумались бы о таких глубинах, в сравнении с которыми все их философские разглагольствования показались бы просто ребячеством» («Волга». 1982. № 10. С. 145).
Народная трагедия вырастает во всемирную, и поэтому за образами говорящего о ней писателя встают вечные прототипы, единые для всей христианской культуры. Вот сам автор, заключённый на «шарашке», слышит через забор, как в смежном общем лагере плачет поставленная околевать перед вахтой на морозе — за выраженное вслух человеческое сочувствие беглянке — молодая девчонка: «Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!..» В бессилии хоть как‑то помочь, писатель глядит в костёр перед собою и клянётся: «Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтёт о том весь свет» (VI, 135). И за этими словами перед умственным взором читателя возникает сохранённый всеми четырьмя евангелистами рассказ о том, как перед скорой смертью Иисуса апостолы вознегодовали на Марию, которая «даром» потратила драгоценное миро, возливши его на ноги Христа — а он ответил ослеплённым сиюминутной заботой ученикам вещею речью: «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала» (Мф. 26:13).