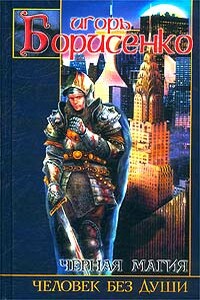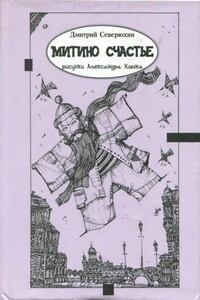Год черной луны | страница 94
— Тата? — позвал я.
Она подняла на меня обожающие глаза. Как они могут обманывать?
— Ты меня любишь? — Мой голос чуть дрогнул.
— Люблю, — произнесли нежные — лживые? — губы.
— Правда?
Улыбка сфинкса. Кивок. Смежившиеся ресницы.
В тот момент я решился. Ее сердце станет моим — хоть бы его пришлось вынуть из груди. Тем более что я прекрасно запомнил цитату из колдовской книги.
Магия так магия. Чем чернее, тем лучше.
В Грансоль я ехал, одержимый только этой идеей.
Но там с самой первой минуты все было настолько по-другому, что я опять поверил в ее чувства. Почти поверил. Мы много раз заходили в разные церкви, и всюду стояли цветы. Я смотрел на них едва ли не с вожделением, но все-таки не решался прибегнуть к чародейству: как известно, от добра добра не ищут. А потом… бес попутал. В Монсеррате я понял, что другого шанса может не представиться, и — была не была! — незаметно для Таты и Умки вытащил цветок из вазы под алтарем Черной Мадонны. О чем я ее просил, полагаю, не стоит объяснять.
Тата, конечно, обо всем догадалась; вышел скандал.
— Ты следишь за мной! Подслушал мой разговор с Ефимом Борисовичем! — возмущалась Тата.
— Ничего подобного! — оскорбился я. — Всего лишь самый конец, и то случайно. Искал тебя, вот и подошел к двери. А сегодня вспомнил и решил над тобой подшутить. Ты ведь не думаешь, что я всерьез верю в эту чушь?
— Думаю! И не понимаю, как ты мог? Вспомни, что было с Иваном! Ты готов поручиться, что это не подействует? А если подействует, то именно так, как тебе надо? Зачем пробуждать к жизни то, чем ты не умеешь управлять? Не веришь в чушь, ну и не лезь в нее!
Она вконец разозлилась, выгнала меня из номера. Я давно не видел ее такой нормальной и пожалел о своем поступке: все шло замечательно, а теперь кто знает, чем обернется мое волхование. Но наутро, при виде ее по-прежнему недовольной мордочки, начал успокаиваться. Вот же — ничего не случилось. Я, наверное, окончательно свихнулся, уверовал во всякое мракобесие.
Но к вечеру, чуть ли не по щелчку, Тата резко переменилась. Я не мог бы ни описать, ни объяснить, в чем эта перемена заключалась, ни доказать, что она действительно произошла, но хорошо ощутил ее физически. Буквально услышал звон, с которым лопнула доводившая меня до бешенства стеклянная оболочка. А из-под нее — наконец-то! — появилась живая Тата. Как росток из-под пленки: беззащитный, чуть сморщенный, влажноватый от пара.
Она, кажется, испугалась и немножко грустила, но была так трогательна в своей открытости, что при одном только взгляде на нее у меня непроизвольно сжималось сердце. А душа между тем пела: она — моя, вся — моя; моя, моя, моя! Оставалось лишь непонятно, благодаря чему — чарам ли, отдыху, перемене обстановки? Моим собственным скромным заслугам?