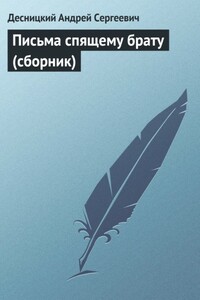В поисках смысла | страница 62
Предвижу реакцию некоторых читателей: ну, это сектанты, это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед (кстати, на гербе Симферополя изображена именно пчела). Конечно же, там есть и православные храмы, в них совершается богослужение, и вообще идет нормальная епархиальная жизнь, как в других городах. Если в храм придет татарин, его никто не прогонит, и книги в храме он сможет купить на своем языке. Но вот активной проповеди, обращенной именно к крымским татарам, я там не замечал. Может быть, невнимательно смотрел.
Они все понимают по-русски, конечно, для некоторых это даже родной язык. Еще старшее поколение понимает по-узбекски, они ведь жили в Узбекистане, а теперь многие овладели и украинским… Так что, собственно, зачем делать для них что-то особенное? Вот пусть читают Библию по-русски, на этом же языке слушают проповедь, а если покрестятся — придут в храм и будут молиться на церковнославянском.
Они, конечно, могут. И на узбекском многие могут, и даже на украинском смогли бы, если бы захотели. Нам в принципе тоже нетрудно понимать по-украински, а если попрактиковаться, мы бы и узбекский как-нибудь осилили, но почему-то мысль отказаться от родного языка не приходит нам в голову. Так и с ними: если «этническому мусульманину» (т. е. такому, который считает себя принадлежащим к определенной вере в силу своего происхождения) дают книгу на русском языке, да еще и с крестом на обложке, он отвергает ее сходу. «Это не наше», — говорит он, и он вполне прав. Те знаки и символы, которые для нас кажутся родными и естественными, для него смотрятся как совершенно чужие. Вспомним, как и в России реагировали в свое время на Никоновы реформы, а ведь то были лишь незначительные изменения привычных символов. Да и сегодня, когда верующие видят нечто непривычное в богослужении и благочестии, то «ересь» — первое слово, которое слетает у них с языка.
Но если дать «этническому мусульманину» книгу, написанную на его родном языке и не носящую никаких явных символов чужой религии, он нередко готов ее прочитать. В конце концов, в Коране крайне мало рассказано о жизни великих пророков древности: Ибрагима, Мусы, Дауда, Сулеймана, Яхьи (Иоанна Крестителя) и Исы, сына Мирьям. Единственное исключение, кстати, это история Юсуфа Прекрасного, проданного братьями в Египет — она изложена в Коране довольно полно, остальные же имена в нем лишь упоминаются. И если мусульманин желает познакомиться с историей жизни этих людей, самое естественное для него — раскрыть Библию, тем более, что Коран называет среди священных книг Таурат (Пятикнижие), Зебур (Псалтирь) и Инджиль (Евангелие).