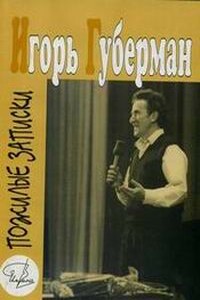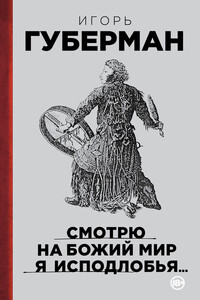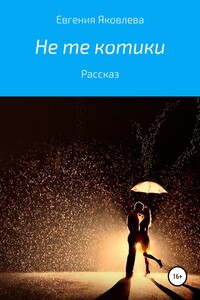Штрихи к портрету | страница 90
А попутно шло и осквернение. Широко стали известны горькие и гневные слова одного петроградского церковного иерарха, обращенные к прихожанам, когда молча наблюдали они, столпившись, изъятие в Александре-Невской Лавре мощей святого князя Александра Невского: «Своими руками, своими руками отдаете вы святыню ваших предков. И на вас падет ответ за поругание святыни». Шепотом передавались эти слова среди сочувствующих, дрожащих и безгласных.
А попутно — всенародное улюлюканье, шельмование и свист. И сотнями находились безвестные слесари и шахтеры, грузчики и пекари, военные и служащие контор, кто восторженно откликался на митингах и через газеты на этот массовый уникальный разбой, требуя усугубления его, умножения арестов и расстрелов, изведения духовенства под корень.
Что же стряслось с народом-богоносцем, на который так благостно уповали славянофилы, которому поклонялись и виновато мечтали послужить несколько поколений интеллигенции? Ничего, по всей видимости, не стряслось. Был он, по всей видимости, таков. И уже задним числом сокрушенно признались в этом высоколобые мыслители-народолюбцы. Но не Рубину было это обсуждать, да он и не собирался.
А милосердие к несчастным и гонимым? Сострадание к терпящим за свою веру? Простое человеческое сочувствие? Не было, как не бывало. Глумление, издевательства, травля. Молодежные карнавалы на Пасху и Рождество с торжественным сожжением чучел попов и монахов…
Справедлива была все-таки отчасти та идиотская кампания в конце сороковых годов за российский во всем на свете приоритет. Он и вправду отчасти был. И в науке, и в искусстве, и в технике (только давили на ранней стадии или равнодушием душили), а уж ночные карнавалы фашизма — явная и несомненная копия (на немецкий упорядоченный лад) гибельного российского загула послереволюционных лет.
А газеты пестрели объявлениями об арестах и расстрелах священнослужителей, угрозами и грязью дышали статьи о церкви. Надругательством и зловещими посулами насыщен был сам воздух существования духовных пастырей. Словно взбесилась разом их паства. Обезумела и мстила им за долгое послушание и веру. Так что кровавые игры пресловутых тридцатых зря так удивляли потом историков: репетиции прошли намного раньше.
Рубину вспомнилась байка, читанная в чьих-то мемуарах, к месту она здесь приходилась, точно к месту, оттого и становясь по сути притчей. В начале двадцатых это было, и неважно, где именно и с кем. На задворках одного большого дома обитатели его, мальчишки лет пятнадцати, заспорили о существовании Бога. Началось с признания одного из них, что родители водят его в церковь. И тогда автор воспоминаний решился на крайний вызов и эксперимент: расстегнул штаны, аккуратной струйкой вывел на земле слово «Бог», после чего спустил штаны и наложил туда же кучу. Компания спорщиков восхищенно и испуганно молчала. А он поднялся, бледный и взъерошенный, и стоял, ожидая молнии с неба или иного немедленного возмездия. В сущности, так же поступали в те годы миллионы. Возмездия не было.