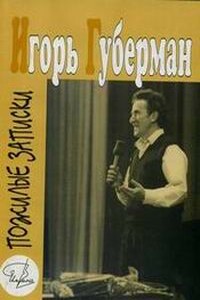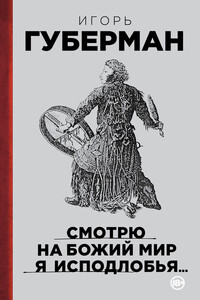Штрихи к портрету | страница 80
Пункт двадцать первый:
— Литературной работы не ищу.
Пункт двадцать второй:
— Многие книги моей библиотеки пропали по обстоятельствам революционного времени. Часть продана мною. Несколько десятков книг, необходимых для меня, стараюсь сохранить.
Пункт последний, двадцать пятый — слова наотмашь, словно заведомая отповедь доброхотам, которые захотят помочь и привлечь:
— Самым ужасным бичом для своей писательской деятельности считаю не голод, не тесноту, не детский плач, а цензуру, поэтому я предпочитаю всякий свободный труд хотя бы и чернорабочего, лишь бы он не насиловал мысль и художественную совесть.
Эва, как вы резко, Николай Александрович, — не боитесь? А ведь вокруг уже многие боятся. И на помощь вам никто не придет, ни на кого сейчас рассчитывать не приходится. Зря вы так. На что надеетесь?
На побег. На сельскую тишину. На возможность исполнения обета и служения где-нибудь в провинции. И наплевать на все творящееся вокруг.
Куда ехать, вопроса не возникало. Только в Оптину пустынь. Ибо она с неких пор была заповедным, заветным для всей семьи местом: там давно уже жила и настоятельно звала к себе мать, Анна Александровна Соколова.
Она приехала сюда еще до войны. Полностью разладились ее отношения со вторым мужем, и ни места, ни занятия не могла она никак найти, в отчаянии и тоске металась, сама не зная, чего хочет. Тут посоветовал ей кто-то съездить в Оптину пустынь под Калугой, где известные всей России святые старцы славились исцелением душ.
Рубину приступать к этой теме было тяжко не только из-за полного незнания истории российских святых мест или смущения перед мистикой и не объяснимыми светлыми чудесами, кои следовало упоминать. Из-за собственного душевного устройства было ему это тяжко. Ибо кончив школу и пройдя институт, прочитав много более, чем большинство сверстников, был он в смысле веры даже не атеистом или материалистом, а просто дикарем. Темным, невежественным и косным. Ибо атеизм предполагает все же какие-то убеждения — в этом смысле зияюшая пустота отличала Рубина. Нет, не отличала, впрочем, а уравнивала с бесчисленным множеством ровесников. Что-то мерзкое, бессильное и пакостно-вялое заставляли их читать в порядке атеистического образования в школе и в институте, что-то гнусное и столь же неубедительное слышал он краем уха, посещая разные лекции и публичные чтения, нечто неизменно поносительное читал в журналах. А задумываться самому — не возникало в нем душевной склонности. Так как не был он ни дураком, ни попугаем, то о Боге и церкви говорил сдержанно, скорее избегая этих тем — просто слишком далеко от него текла непонятная ему жизнь верующих. И никто на пути не попадался, кто не то что к вере его склонил, но хотя бы заронил в нем любопытство или интерес. Так что это дремучесть просто была, глухая и полная Дремучесть. Хоть умом уже начал понимать с годами, как полна и осмысленна жизнь того, кто верует искренне… Однако душа его была по-прежнему пуста и безответна.