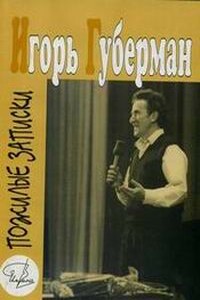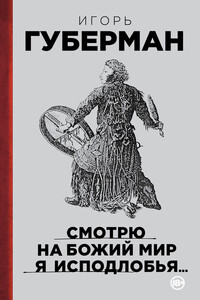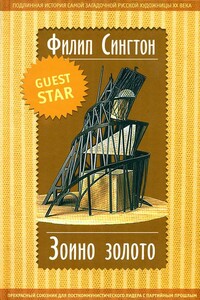Штрихи к портрету | страница 51
— А один был нелюдимый, очень замкнутый. Однажды словом перекинулись по случаю. Он астрономом оказался, но не это важно. Главное, что был он председателем большой масонской ложи. Вот они как гениально поступили: объявили великое молчание и уход в анабиоз. До лучших, так сказать, времен. И не распустились, заметьте, не распались, а в молчание все вместе ушли. Что-то в этом есть величественное, согласитесь. Гастев была его фамилия. Был еще поэт такой известный тогда. Из романтиков, энтузиастов, подвижников. Он еще раньше был расстрелян. Или наш не Гастев был? Астров, может быть?
Страшно напряглись, словно выламываясь в негнущуюся сторону, толстые пальцы неподвижной руки. И, медленно расслабляясь, опять легли на одеяло.
— Больше не могу рассказывать, Илья Аронович. Я правильно вас величаю? Извините, но самое худшее, чего я так боялся… Я забыл. И все тогда теряет смысл. И в том числе я сам. Как я упустил это время, когда начал забывать фамилии?
Рубин поднял голову Растерянно и недоуменно смотрели на него маленькие мутные глаза. Острую жалость и сочувствие ощутив, Рубин сказал:
— Если не устали еще, Владимир Михайлович, расскажите о себе немного.
Старик выпятил толстую нижнюю губу, задумавшись, взгляд его уплыл куда-то, пальцы на одеяле распластались и напряглись. Он начал медленно и словно нехотя, но сразу увлекся.
— Благополучная семья, интерес к математике, университет, ранняя любовь к загулу и к игре. Картежный долг повис однажды крупный, решили с другом нэпмана одного пощипать. В Москве он на Остоженке платьем торговал. А у него в тот вечер в гостях районная милиция пьянствовала. Хорошо хоть не пристрелили на месте. Три года дали. Очень справедливо, хочу заметить, и весьма гуманно. По сегодняшним временам — великодушно и милостиво, ибо одного служивого мы крепко помяли, а он в форме был, нынче бы втрое дали. Вот отсюда и Бутырка. Лучше я о ней вам расскажу. В двадцатых это рай был, а не тюрьма.
Старик мечтательно закрыл глаза, и лицо его снова чуть одрябло в подобии сентиментальной улыбки.
— Я бы этот период назвал наивным и романтическим. Нет, я о расстрелах в те годы знаю. Но система еще была патриархальной. Достаточно сказать, что на выходные некоторых домой отпускали — до утра понедельника. Камеры утром открывались, и общение — свободное. По коридору гуляли, как по бульвару Снова запирали только на ночь. А библиотека какая! Кстати, на многих книгах был экслибрис: «Вацлав Боровский» — видно, всю его библиотеку тюрьме отдали, когда его в Лозанне пришили. Замочили беднягу на глушняк.