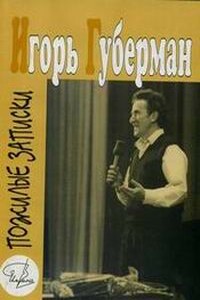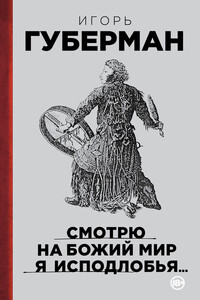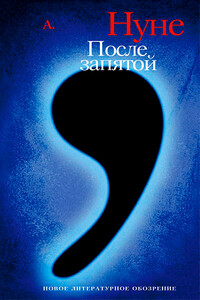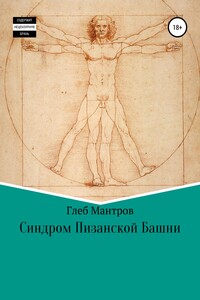Штрихи к портрету | страница 101
Не знаю, право, мне больше по душе блоковское из «Двенадцати» — помните? «В зубах — цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз». Весь этот патруль, больше похожий на банду, — гениально описан. Им все равно, в кого стрелять: в недорезанного буржуя или в избяную Русь. В январе восемнадцатого они, как вы помните, убили только потаскушку Катьку, а нынче уже справились и с буржуем, и с крестьянином — с равной злобой и решительностью, заметьте.
А Христа преследуют по-прежнему, только Блок писал о его неуязвимости, тут само время внесло поправку.
Вы не правы. Вы обратили внимание, что эти двенадцать шли под красным флагом, и вдруг флаг оказывается у того призрака, в который они стреляют? Так что не дух христианства они преследуют, но свое душевное вчерашнее, так что здесь кошмарное намечается предвидение. А пес, пес, который только что терся у ног буржуя на перекрестке, теперь, виляя хвостом, пошел за ними? Почувствовал хозяев жизни. А как их ощутили все охвостье и все подонки, увязавшиеся вслед! Удивительная поэма, правда? Не зря после нее он онемел.
Да, но все увиденное тогда Блоком — нынче как-то странно и страшно развивается. Даже боязно пытаться в будущее заглядывать. А впрочем, поживем — увидим.
Если поживем, сказал один из собеседников. Мы ведь, похоже, выпали из естественного течения истории. Мы свидетели уникального извращения человеческой сути и жизни человеческой. Об этом надо писать.
А где печатать? — усмехнулся собеседник. Какая разница, сказал Бруни, мы должны свидетельствовать, это неважно, что записи не сразу увидят свет. Уверен я, что непременно надо именно об этом — о вывернутости наизнанку всех былых понятий. И Бруни заторопился домой. Вы спешите писать? — усмешливо спросил собеседник. Да! — ответил Бруни. И с благодарной радостью долго помнил ту минуту решимости и отваги.
Где он теперь, неизвестный этот роман? Сожжен? Растащен по листку? Истлел? Или валялся где-то в кладовых Лубянки, где наверняка хранились (если не были уничтожены в войну) многие другие рукописные свидетельства века, отобранные при арестах и исчезнувшие вместе с авторами. Что-нибудь отыщется наверняка, подумал Рубин с таким живым чувством, словно и ему еще доведется их прочесть. Нет, подумал он, не доведется. Внукам разве. Но теперь уместнее подумать, чем Николай Бруни дышал все эти годы.
Ибо тому, кто не был энтузиастом (в разное время и в местах разных впоследствии и энтузиасты прозрели), было нелегко дышать.