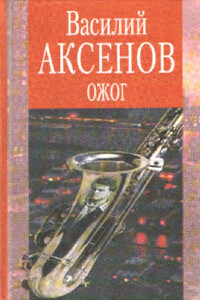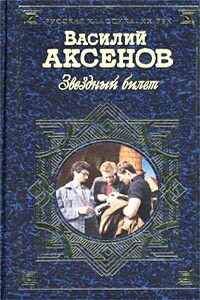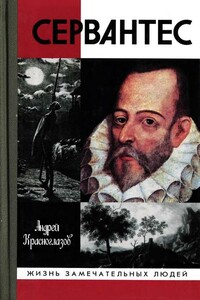Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания | страница 36
В нашем представлении об Арктике 30-х годов был и существует по сию пору этот проклятый перекос. И если в 30-е годы фильм «Семеро смелых» был, наверное, духовно питателен, то в 70-е фильм, сделанный на том же материале, обязан воспроизвести что-то более существенное, чем романтическая борьба со стихией, являющаяся основой духовной сплоченности тех, кто эту борьбу ведет. Например, самое простое: каким трудным было человеческое существование в этих невероятных обстоятельствах!
Фильм «Обыкновенная Арктика», в частности, и об этом. Основное обстоятельство сюжета — пять дней пурги, начавшейся сразу после прибытия на арктическую стройку нового начальника. Время действия — 1935 год. Сразу после челюскинцев и непосредственно перед папанинцами, чтобы не вступать в полемику с официальной романтикой.
Можно сказать, что эта картина о героическом строительстве. Можно сказать, что эта картина о том, как на стройку, находящуюся в прорыве, прибывает новый руководитель. Вообще, пользуясь языком аннотаций, можно выделить из этой, как и из любой другой картины, какую-нибудь сюжетную или социальную струну и, не будучи Паганини, сыграть на ней коротенько и доходчиво «основную тему» вещи. Но даже при самом лапидарном изложении движущей силой сюжета будет приезд нового начальника, человека малознакомого с условиями Арктики, проштрафившегося где-то на «материке», как принято выражаться в наиболее отдаленных от центра районах, резкого, малообщительного, для которого понятия «дело» и «человек» сходятся только в том диалектическом единстве, когда первое является целью, а второе — средством. Я пишу все это и с трудом выбираю слова и характеристики, которые подходили бы к этой роли в ее додалевский период. Потому что и сразу после картины, и тем более теперь, десять лет спустя после ее выхода, мне трудно разделить то, что было придумано изначально, от того, что состоялось в роли с приходом Даля. А надо бы, потому что первоначально, до проб, сама мысль о его участии казалась, мягко говоря, еретической многим и отчасти даже мне самому.
— Попробуй Даля, — сказал мне отец.
— Даля?!
Прекрасного мальчика нашего кинематографа, обаятельного даже в гневе, в разнузданности; тонкого, ювелирно владеющего всеми оттенками палитры своей вечной юности? Ну, не так красиво я тогда рассуждал, но что-то подобное этому проносилось в голове. И в то же время я удержался от спора. Во-первых, потому, что одно, еще более крамольное предложение старшего Симонова уже стало великолепной реальностью в «Живых и мертвых»: Папанов — Серпилин, это была именно его идея. А во-вторых… Во-вторых, было что-то в столь хорошо мне знакомом Дале, что никогда не позволяло общаться с ним на полном «коротке», какой-то всегда присутствовавший или угадываемый холодок, какая-то иногда явственней, иногда туманней ощущаемая запертая на замки комната в столь, казалось бы, открытой, даже распахнутой квартире его жизни.