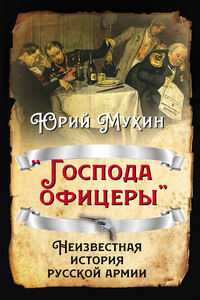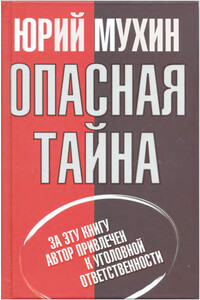НЕсвобода слова. Как нам затыкают рот | страница 88
Если средство массовой информации распространяется на территории двух и более субъектов Российской Федерации, дело о прекращении деятельности этого средства массовой информации подлежит рассмотрению тем судом (из числа указанных в статье 26 ГПК РФ), юрисдикция которого распространяется на территорию преимущественного распространения средства массовой информации».
Понимаете, одно дело – когда тебе, районный или городской судья, закон толкует какой-то там Мухин. Другое дело, когда тебе то же самое, что и Мухин, толкует Верховный Суд. Тут даже при наличии «заказа» на Мухина все становится не так просто…
В результате 19 августа 2010 года Мосгорсуд определил: решение Останкинского суда о прекращении деятельности газеты «К барьеру!» отменить и направить дело на новое рассмотрение. Мы выиграли эту партию в укор тем, кто, цитируя Гарри Каспарова, ноет сегодня, что нет смысла «указывать, что конем так не ходят, когда тебя шахматной доской бьют по голове». Есть смысл!
Подытожим.
Предлагаю ли я грудью бросаться на амбразуру ДОТа или бежать на танк с бутылкой горючей смеси и криком «Уря-я-я!»? Нет, таких подвигов от журналистов никто не требует. Для защиты их же свободы слова я предлагаю использовать те возможности, которые дают журналистам Конституция и законы России. Эти возможности не понятны? Но если не понимать их, то что тогда вообще способен понять журналист?
Впрочем, об этом в конце книги.
Глава 4
От чего защищает свобода слова
Чего они засуетились?
Итак, я написал выше о том, как с помощью закона «О противодействии экстремистской деятельности» укрепляется авторитаризм государственной власти в России и что можно предпринять для сопротивления авторитаризму. А теперь о том, настолько ли в представлении депутатов опасен экстремизм, чтобы принимать для борьбы с ним специальный закон, да еще и дважды после принятия переделать его? Согласитесь, что для исследования оружия, применяемого властями против своего народа, истинные причины появления именно этого оружия не могут не быть интересными.
Сначала рассмотрим криминальный аспект появления этого закона – может, на момент его принятия мы стали бояться выходить на улицу в страхе, что какие-то там экстремисты нас убьют или изобьют?
Сошлюсь на мнение российских обывателей. Через 9 лет после начала борьбы с экстремизмом, сопровождаемой оголтелой кампанией в СМИ, 14–15 августа 2010 года ВЦИОМ провел всероссийский опрос о главных жизненных проблемах россиян. Как требует объективность, было опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах 42 областей, краев и республик России. И выяснилось, что не депутаты, а простые граждане России главной проблемой страны считают алкоголизм и наркоманию (57 проц.). В тройку самых острых проблем попали также инфляция (55 проц.) и безработица (50 проц.). В первую десятку рейтинга входят также проблема уровня жизни, коррупции (по 41 проц.), преступность (32 проц.), ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ и в сфере здравоохранения (по 28 проц.), а также проблемы пенсионного обеспечения (27 проц.) и положения молодежи (26 проц.). Несколько реже россияне тревожатся по поводу терроризма, состояния морали и нравственности, экологической ситуации (по 22 проц.), влияния олигархов на жизнь страны (20 проц.). Далее в рейтинге следуют проблемы образования (17 проц.), демографии (16 проц.), экономического кризиса и задержек выплат заработных плат (по 14 проц.). Ситуация в армии и национальная безопасность волнуют по 10 проц. опрошенных. Межнациональные отношения тревожат 8 проц., положение России в мире и отношения со странами СНГ – по 7 проц. Наименьшее беспокойство у наших сограждан вызывает проблема экстремизма (5 проц.).