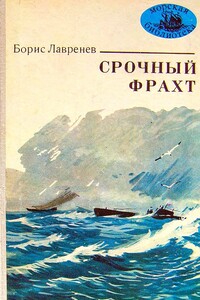Публицистика | страница 16
В современном литературоведении есть понятие модельной ситуации. Во времена Лавренева его еще не было. Но он часто строил свои рассказы как модели, позволявшие ему на максимальных сюжетных заострениях, всегда очень эффектных и на пределе эмоциональных, продемонстрировать волнующую его идею.
Иногда такой способ художественного мышления оборачивался в пьесах и рассказах Лавренева дидактичностью, чрезмерной наглядностью, «прописанностью» выводов, а то и откровенными нравоучениями. Так было в пьесах «Мы будем жить», «Голос Америки», даже в пользовавшейся в свое время огромным успехом драме «За тех, кто в море». Так было во многих рассказах военных лет. В этом случае, впрочем, дидактическая однозначность обуславливалась основным заданием, той целью, которую ставил перед собой в годы войны Лавренев. Рассказы сороковых годов, построенные с обычным для Лавренева умением стремительно, споро вести сюжет, развивать повествование энергично, целеустремленно, не теряя времени ни на психологический анализ, ни на подробное выписывание пейзажа, почти целиком сосредоточиваясь на действиях героев, на их поступках, писались ведь с открытым агитационно-пропагандистским заданием. Время этого требовало. Требовала этого и флотская печать, где появились почти все рассказы Лавренева 40-х годов. Агитация, воспитание моряков на положительном патриотическом воинском примере были главной задачей, которую надо было решать Лавреневу — военному журналисту. И, надо отдать ему справедливость, он решал эту задачу с увлечением и искренним писательским жаром, который способен согреть и современного читателя, знающего о войне еще и ту горькую, саднящую правду, какую позже поведали всем нам Василь Быков, Григорий Бакланов, Виктор Астафьев, Юрий Бондарев, Владимир Богомолов.
В том, что лавреневские рассказы военных лет с интересом читаются и после книг этих писателей, читатели убедятся, познакомившись с двумя рассказами — «Черноморская легенда» и «Разведчик Вихров», помещенными в этом томе.
Борис Андреевич Лавренев прошел в литературе большой, но прямой, никогда не сбивавшийся на обочину путь. Во всем его писательском и человеческом облике была та особая цельность, которая бывает свойственна только людям, избравшим дорогу через жизнь и искусство однажды и навсегда. Он ведь всегда и во всем был родом из революции. Как и его любимые герои. Как и все поколение, ею выращенное и ею выдвинутое на авансцену истории, на самую ее стремнину.