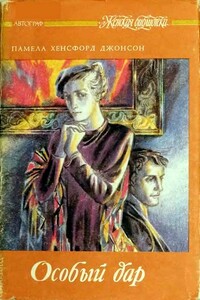Чужеземка | страница 84
Он приблизился, благоухающий, стесняясь собственной галантности. Тут он увидел лицо жены.
— Дитя мое, ты опять плачешь? — В его голосе слышалось неприятное удивление. — Успокойся же наконец, нельзя вечно жить прошлым, пора примириться с утратой…
Роза посмотрела на него без обиды. Наоборот, угнетенная неудачей, она жаждала дружеского участия. Ей так нужен был кто-то, кто уговорами и советом преуменьшил бы размеры поражения, приободрил, обнадежил. Довольно долго она молчала. Затем вздохнула.
— Ты прав. Пора примириться. Требования все повышаются, играть все труднее. Когда-то Паганини считался учеником дьявола, а теперь каждый способный ученик должен быть таким, как Паганини. Только вот музыка… сколько в ней красоты!
Адам отшатнулся, как будто его толкнули в грудь.
— Так ты о музыке? По музыке ты плачешь?
Роза покачала головой.
— Как же, Адам, не плакать. Ты подумай. Играла я перед Сарасате — сколько же это лет тому назад? — ноктюрн Шопена в его переложении… Бог весть как, — что я умела в то время? Проклятый Януарий! Все только «Valse Caprice», «Souvenir de Moscou», и мазурки, и «Airs Varies»… Жавинье, скажем, или там Ровелли я даже и не нюхала. Да что, он мне даже позиционные изменения никогда не показал как следует. Только уже в Петербурге Ауэр[54] дает мне в классе (мне, кончившей консерваторию, ученице знаменитого виртуоза, которая «Чакону» уже должна была тогда играть как сам черт!) — дает мне этюды Крейцера, а я ни бе, ни ме. Ауэр говорит: «Eh bien, jouez, mademoiselle»[55], а у меня кровь прилила к голове: посмотрела в тетрадь, вижу двойные пассажи, знаю, что ничего из этого не выйдет, и только зубы сжала. И молчу. А они смеются. «Qu'est-се que vouz avez? A Varsovie on ne joue pas Kreutzer? Qu'est-ce qu'on joue donс a Varsovie?[56]Что вы там — господина Монюшко играете?» И Сарасате тоже сказал, но как! «Pauvre enfant, quelle miserable ecole et quel talent, parbleu!»[57] Подбежал к чемодану (мы с отцом были у него в гостинице), вынул смычок — подлинный Турт[58] — и подает мне: «Je crois en vous. Vous vous en tirerez. Du courage, petite!»[59]
У Розы блестели глаза. Адам тяжело опустился на стул, не прерывал; вся комната пропиталась запахом «Марешаль Ниель».
— «Vous vous en tirerez». Легко сказать! Смелости-то у меня хватало. Через полгода я уже выступала перед великим князем. Пришлось. Стипендиатка! Надо было показать, что я не даром ем казенный хлеб. Но чем дальше, тем труднее. И руки скандально запущены, особенно левая. В пансионе по ночам упражняться нельзя, — подружки убили бы, спать хотят. А днем… играю, играю, и вдруг сердце как заболит, страшно… Может, где-то тут рядом Михал проходит со своей курсисткой? Ведь этот милый сюрприз поджидал меня сразу же по приезде… И питание ужасное. У Луизы, какая она там ни была, кофе всегда был с пенкой и пироги — пальчики оближешь! А этот вечный рыбный суп в пансионе и старая баранина, — я не могла этого есть. И ходила голодная. Другие получали посылки из дому, я стеснялась писать. Это ведь я хотела в Петербург, главным образом из-за Михала. Отец не хотел, сами едва сводили концы с концами… Отчаяние, голод, непосильный труд, — тут никакой смычок Турта не поможет. Ну и заболела я тифом. Когда поднялась, доктор говорит мне.