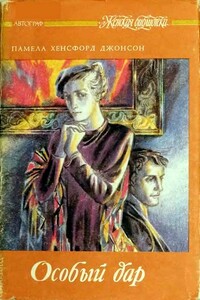Чужеземка | страница 14
— Да, я; ну и что? Неприятная неожиданность? Ты предпочел бы доченьку, пожаловаться ей на меня? Все вы хороши. — Она уже кипела, слова не давала сказать. — Эксплуатировать, сдирать с матери последнюю шкуру, пусть батрачит на вас, как чернорабочая, — это вы умеете, но понимания от вас не жди. — Ее голос неестественно звенел, она задыхалась. — Ничего-то они не видят, ничего не замечают, не умеют оценить. Молчи, молчи, я хорошо знаю, что ты и кто ты, — тут Роза, опасаясь Сабины, понизила голос, — приходи немедленно, да, сюда; нет, не к обеду, а сию минуту — твои гамаши готовы!
Вся дрожа, Роза хлопнула трубкой и вернулась в гостиную.
Проходя мимо большого зеркала, она взглянула на свой яркий жакет, и лицо ее снова прояснилось. «Close your eyes», — нет, в гостиной не слышно было соседского радио, а может быть, пластинка кончилась.
Роза подошла к пианино, начала перелистывать ноты. Погодя поставила перед собой обработанный для голоса этюд Шопена «Сожаление». Села, сыграла несколько тактов… Она так любила петь! Никогда не могла простить тетке Луизе скрипку…
Тетка сумела вырваться из петербургского Института благородных девиц, кончила женские курсы в Париже. Она осмелилась также отвергнуть любовь господина Шишко, земского пристава, который по долгу службы опекунствовал над дочерью ветерана, зато успела выучить (и знала в совершенстве) несколько языков, переписать в альбом — не считая «Матери Спартанки» — всего Конрада Валленрода[14] и завоевать расположение самых известных помещичьих дворов в Куявах.
Долгие годы tante меняла одну за другой усадьбы, обучала все новые школьные поколения дворянских отпрысков безукоризненному произношению французского «р-р-р» и ненависти к «дикому восточному деспоту». И, наконец, собрав небольшой капиталец и коллекцию золотых с эмалью часиков, — сувениры от благодарных питомцев, — однажды осенью появилась в Таганроге для того, чтобы смерить презрительным взглядом легкомысленную Софи, которая все позабыла: и злую судьбу своего отца-патриота, и пресловутое коромысло, на котором ее родная мать Анастазия носила ведра с водой из Терека, даже о трагедии собственного мужа не думала она, о сироте, вынужденном после смерти отца-бонапартиста поступить на царскую службу, и, видимо, вообще не имея понятия о том, что такое приличие и честь, шлялась по офицерским клубам.
Elle l’а foudroyee du regard, cette malheureuse Sophie[15]. И заперлась с отцом в кабинете.