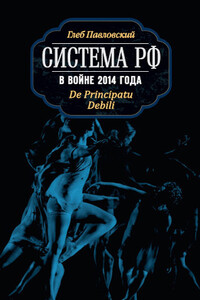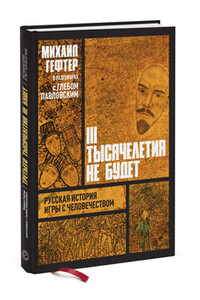1993: элементы советского опыта. Разговоры с Михаилом Гефтером | страница 26
Возьми наши разговоры в 1982 году – ведь мы уже были ментально внутри катастрофы и осматривались в ней. Правда, мы иначе представляли катастрофу. Казалось, та пройдет по пути правового опустошения при готовности советских людей участвовать в абсурде.
Что обвал Союза приобретет буквальный характер, трудно было представить. Я писал о таком в самиздате, но сам думал, что это гипербола, преувеличение.
Знаменитая фраза Марика Печерского>32: «Кто придет на смену комитетчикам и партсекретарям? Фарцовщики!»
XIX век выступал для нас позицией отпора диктату, где можно закрепиться и мыслить. Но катастрофа случилась. Готов ты обороняться в XIX веке как в бастионе русскости? Это возможно, но тогда давай делать это последовательно. Катастрофа сместила ось, века обвалились вслед Союзу.
И это подстрекает к ревизии XIX века. В некотором смысле все в XIX веке – и Чаадаев, и Леонтьев, и Герцен, и Желябов с царем Александром оказываются для нас уравнены.
Ряд раздвинулся за горизонт XX века. Былые катастрофы русской истории приобрели вид предисловий, а не фатальных обвалов. Русский мир пока нерушим.
Да, но он потерял свою глобальную альтернативность.
Достаточно ли Чаадаева для того, чтобы заново переформулировать чаадаевский вопрос?
Это бесспорно. Вот зачем я вслушиваюсь в то, что говорят Распутин>33, Бабурин>34 и даже Жириновский>35. Дело не в том, что русский вопрос нельзя поставить в либеральном контексте. Русский вопрос после Пушкина принципиально не может ставиться однозначно. Нужен пучок «русскости», ее гамма.
И я возвращаюсь к мысли о том, как выйти к взаимному непониманию. Как, выслушав друг друга, попытаться понять сначала то, о чем мы говорим разно? Исходя из посылки, что сказывание некорыстно и говорящие не мерзавцы. Пусть мы ошибемся, такая посылка совершенно необходима.
Конечно, есть закавыка. Конструирование русского вопроса идет по образцу еврейского вопроса. Как ты говоришь, «русский сионизм». Но это не так спекулятивно, как кажется на первый взгляд. Если представить неизраильского еврея маргиналом в Маргиналии Россия, близость русского вопроса еврейскому очевидна.
Черт побери, уже полпервого!
Я отвлек тебя.
Нет, этот разговор мне очень на пользу.
Заметь, именно теперь Россия стала кардинально непонятной. Я в программе у Киселева хочу заявить: слушайте, страшно вырос риск того, что стало невозможным говорить по целому ряду сюжетов. О Сталине говорить вообще уже не с кем. О русско-еврейских отношениях – ненормальный разговор. Или что за «русская национальная идея»? Я это словосочетание хочу понять. Идея, которой руководствуются русские? Или идея, которая родилась в России? Какая-то особая, национальная идея, и раз у тебя ее нет, ты не русский? Но это же бред. И почему она в единственном числе, в чем она состоит? В Третьем Риме? Во вселенской отзывчивости? Сейчас конец ХХ века, вселенская отзывчивость – это Майкл Джексон!