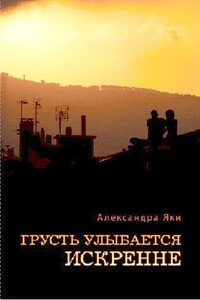Сизиф | страница 33
— Нет, я ничего не знаю об Аиде, — ответила Меропа, и только теперь он увидел, каких усилий стоили ей прошедшие три дня. — Я шла в Фессалию, когда увидела ее впервые. Мне уже не дано было ее узнать, а она меня узнала, хотя это было самое страшное время для нее, и не могла она ни о чем думать, кроме пропавшей дочери. Вся в черном, высокая, и видно было, до чего красива Деметра, даже с волосами, упрятанными под платок, и с воспаленными глазами, в которых и слез не осталось. Мне ведь надеяться тоже было не на что, я уже готова была к отцу вернуться за утешением, зная, что он, может быть, и признать меня не захочет. Я тогда не понимала как следует, что делаю, чувствовала только, что другая жизнь мне не нужна. А она в скитаниях своих многое повидала и призналась мне, что горе, которое ее сжигает и сильнее которого, как ей казалось, в мире нет, люди принуждены выносить каждый день, и что хочет она подарить человеку бессмертие и готова была бы ради этого разделить его судьбу. Мне после этого уже не так одиноко было…
— Мы не говорили в ту ночь, — сказал за спиной Артура знакомый голос. Он ждал продолжения, не оборачиваясь, и, когда уже решил, что больше в этот раз ничего не услышит, грек заговорил снова: — Мы вцепились друг в друга, как колючки, будто к нам молодость вернулась, а сколько осталось жить, мы не знали. Но если бы было время, если бы меня не покинули силы, я говорил бы не о Деметре. Я никогда не видел Ориона. Об охотнике мне приснился сон. И случилось это после того, как мне приглянулась девушка с большими, чуть заметно косившими глазами. Никто не знал, откуда она, даже те, кто ее приютил и в чьем доме она жила. Мне не следовало помышлять о браке с чужой и безродной, вот душа моя и трудилась, придумывая ей высокую судьбу. И остановимся здесь. Я знаю, что твое зрение может быть острее. В конце концов, этот свой урок ты выполнял не из самых высоких побуждений. Но и в самой крайней степени подлинности — чем все это может пригодиться? Тебе или кому-либо другому?
— Может, и ничем, — отвечал Артур. — Я думаю, тут какое-то личное пристрастие.
— Прошу, избавься от него. Это чужая жизнь. Многое ли в ней случалось и как — не твое дело.
— Как же получилось, что жребий твой у всех на устах? Я вот вечности не принадлежу. Наверно, и у тебя была возможность остаться безвестным Бассом или Сосием?
— Ни о чем ином я и не помышлял. Не имеет значения, зачем я посягнул на неумолимый закон мироздания. Людям важно было убедиться, что этого делать нельзя. Вот и вся суть мифа. Он возникает лишь однажды, к нему нельзя подняться по восходящей, и нет от него пути вниз. Разгадывай его в меру своего пристрастия, но не ищи ключа в житейской чепухе. Что толку объяснять победу над лернейской гидрой безнадежным состоянием болот под Лерной и радикальными методами мелиорации? Те, кто увлечен такими разоблачениями, считают, видно, что мало было афинянам покорить Крит и избавиться от тяжкого бремени человеческих жертв Миносу. До того напыщенными и самовлюбленными были афиняне в глазах этих мудрецов, что им необходимо было сочинить сказку о лабиринте и о хищном быке, побежденном Тезеем. Вот и лабиринт уж не лабиринт, а всего лишь огромный, невиданный прежде дворец в Кноссе. Ты доволен? Удалось нам разделаться с нитью Ариадны?