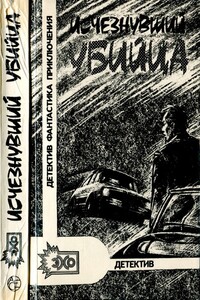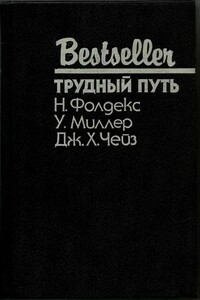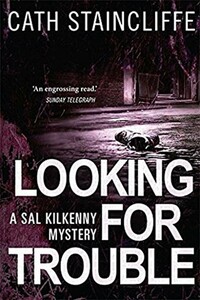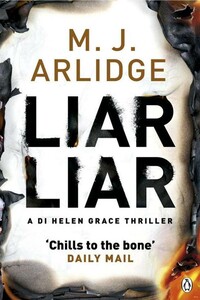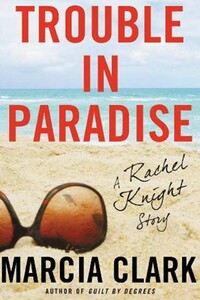Именем закона. Сборник № 3 | страница 54
— Когда вы в последний раз виделись с Комиссаровой?
— Десятого июля. Она позвонила и приехала ко мне. Надя была в скверном состоянии. Картина напоминала ту, в первый визит. Но в этот раз все вертелось вокруг роли, которую она хотела получить и которую ей не хотели давать. Роль Офелии в «Гамлете». Надя была очень противоречива. С одной стороны, она жаждала получить роль, с другой — говорила, что роль Офелии ничего не изменит в ее жизни. Она, дескать, опустошена. Ее мучил страх, что она не справится с ролью, так как все растеряла и больше не способна играть по-настоящему. Она снова говорила о бессмысленности такой жизни.
— То есть о самоубийстве?
— Да.
— Но потом ее состояние улучшилось, раз она больше не обращалась к вам?
— Дело в том, что до двадцать девятого августа я был в отпуске. О смерти Нади узнал случайно, читая «Вечерку».
— Не знаете, Надежда Андреевна вела дневник?
— Не знаю. Вообще она могла вести дневник. С другой стороны — зачем? Свои мысли она доверяла мне. Впрочем, не знаю.
Поздно вечером я отвез профессору Бурташову ксерокопии писем Комиссаровой — оригиналы были подшиты к делу — для психиатрического исследования. За несколько часов до этого почерковеды подтвердили, что письма написаны рукой Комиссаровой.
Профессор Бурташов отнесся к письмам настороженно.
— В письмах человек в той или иной мере подчиняется партнеру — адресату, определенным правилам игры. Вы играете в теннис?
— Нет.
— Понимаете, моя игра во многом зависит от партнера, которому я адресую мяч. С одним партнером игра одна, с другим другая, с третьим — третья и т. д. В дневнике человек предельно откровенен. Он пишет как бы сам себе. Насколько я понимаю, письма адресата не сохранились. Важно знать, кому написаны письма, характер адресата, уровень развития, уровень связей. У вас не будет возражения, если я привлеку к экспертизе психолога?
Какие у меня могли быть возражения? Я испытывал благодарность к профессору. У него каждый день был расписан по минутам, а он все-таки находил для меня время, думаю, в ущерб своим основным занятиям, искренне желая помочь. Чтобы хоть как-то облегчить его работу над письмами, я рассказал ему о Кругловой.
— Скудно, но уже что-то, — сказал он.
О Ноткине я ничего не стал говорить. Во-первых, я опасался, что это невольно помешало бы профессору Бурташову в объективном исследовании писем. Во-вторых, показания Ноткина могли послужить чем-то вроде контрольных данных, с которыми мы могли сравнить заключение профессора Бурташова.