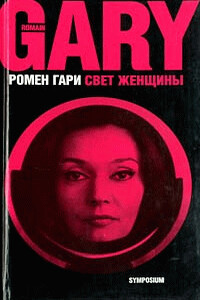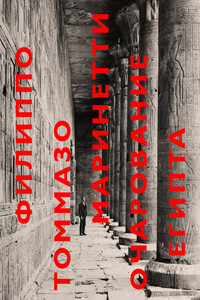Большая барахолка | страница 60
— Нет уж, позвольте, друг мой! Это переходит все границы! Я не потерплю, чтобы со мной говорили в таком тоне в моем же доме! У меня от этого начинаются спазмы, конвульсии, судороги…
Он выбежал из гостиной и заперся у себя на два поворота ключа. Кюль, по всей видимости, ничуть не удивился; он пару раз хихикнул, сделал несколько затяжек, потом встал, подошел к двери и прислушался: изнутри не доносилось ни звука, должно быть, несчастная частичка забилась в угол и затаила дыхание. Кюль постоял минут пять, еще раз довольно хихикнул, взял свою шляпу, зонтик, прихватил пачку овсянки, которую добыл для него Вандерпут, конверт, который старик вручал ему каждую неделю, и ушел. Эти еженедельные конверты будоражили мое любопытство. И однажды я спросил Вандерпута, что это такое.
— Э, юноша! — ответил он со вздохом. — В жизни важно иметь хорошего друга… — И продолжил: — В жизни вообще, а в префектуре полиции особенно.
Вандерпут хитро подмигнул. Но я видел, что он не доверяет эльзасцу, а с тех пор, как Кюль, когда старика не было дома, зашел в его комнату, осмотрел все, что там есть, и тщательно записал каждый предмет в сафьяновую книжечку, стал запирать свою дверь. В тот раз Кюль не мог удержаться, чтобы не навести хоть какой-то порядок, и Вандерпут, вернувшись, застал комнату прибранной, вычищенной, проветренной — можно подумать, с ужасом рассказывал он, все смело ураганом. При виде этого бедствия Вандерпут дико закричал, ему стало плохо, пришлось вызывать врача. Старику понадобилось несколько месяцев муравьиной работы, чтобы восстановить в комнате привычный кавардак, но кое-какие булавки, часовые стрелки и целая коллекция диковинных спиралек так и пропали. Вандерпут еще долго возмущался злодейским поступком Кюля: «Как будто я уже умер и комнату собрались кому-то сдавать!» Кюль много раз приходил с извинениями и с надеждой получить свой конверт, но Вандерпут его не впускал. Однако он был незлопамятен и в один прекрасный день все же принял друга, сидя в кресле со слабой снисходительной улыбкой тяжелобольного, которому уже нет дела до этого мира, впрочем, у него хватило сил обозвать Кюля убийцей и мелким пакостником — это последнее словечко, учитывая комплекцию Кюля, прозвучало особенно хлестко и оскорбительно.
Ненависть ко всему новому и пристрастие к рухляди сказывались у Вандерпута и в манере одеваться. Одежду он покупал подержанную в одной ветошной лавочке. Иной раз, наблюдая, как он там выискивает какие-нибудь особенно потертые брюки, бережно ощупывает каждую пуговичку, осторожно соскребает ногтем каждое пятнышко, выворачивает наизнанку карманы и выгребает оттуда крупинки табака или заплесневевший носовой платок, я явственно чувствовал некую родственную связь, симпатию, взаимопонимание, мгновенно возникающие между стариком и ветхим тряпьем. Помню день, когда Вандерпута обуяло желание увеличить свое тряпичное семейство и он присмотрел себе пиджак из шерсти альпака. Лавочка находилась на набережной, между двумя магазинами, торгующими птицами, на витрине красовалась надпись «Одежда новая, подержанная и напрокат». Сам старьевщик месье Журден, пожилой господин с внушительной внешностью бородатого философа, в засаленной черной бархатной ермолке, был издателем, главным редактором и единственным сотрудником анархистского листка откровенно антиклерикального толка «Страшный суд», который он по воскресеньям бесплатно раздавал на церковных папертях, а один экземпляр неукоснительно тридцать пять лет подряд посылал священнику собора Парижской Богоматери, с которым в конце концов подружился. В тот день он встретил нас с угрюмым видом, посетовал на нехватку угля — дело было в июне — и в ответ на вопрос Вандерпута о его самочувствии стал жаловаться на мочевой пузырь, простату и Национальное собрание, со вкусом разбранив плохую работу и пагубную роль этого органа власти.