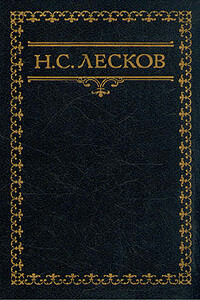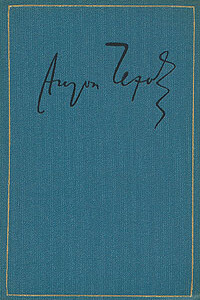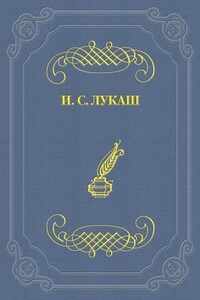Одиссей Полихрониадес | страница 63
Бѣдный отецъ чуть живъ отъ усталости и сна сидѣлъ. Я отдохнуть успѣлъ послѣ завтрака, а несчастный отецъ сидѣлъ на диванѣ чуть живой отъ утомленія и сна. Иногда онъ и пытался возражать что-нибудь безумному доктору, вѣроятно для того лишь, чтобы рѣчью самого себя немного развлечь и разбудить, но Коэвино не давалъ ему слова сказать. Отецъ ему: «А я тебѣ скажу…» А Коэвино громче: «Абдурраимъ-эффенди! Аристократія! графъ… Гайдуша… архонты всѣ подлецы!»
Отецъ еще: «Э! постой же, я тебѣ говорю…» А Коэвино еще погромче: «Разносчики всѣ… А? скажи мнѣ? А, скажи? Благовъ, Корбетъ де-Леси, Абдурраимъ, Корбетъ де-Леси, Благовъ, Италія, папа, фарфоръ голубой: у меня три жакетки изъ Вѣны послѣдней моды… Фарфоръ… Благовъ, Корбетъ де-Леси!..»
Самъ смуглый, глаза большіе, черные, выразительные, волосы и борода густые, и черные и сѣдые. Въ одинъ мигъ онъ мѣнялся весь; взглядъ то ужасный, грозный, дикій, то сладкій, любовный; то выражалъ онъ всѣми движеніями и голосомъ и глазами страшный гнѣвъ; то нѣжность самую трогательную; то удивленіе, то восторгъ; то ходилъ тихо и величаво какъ царь всемощный по комнатѣ, только бровями сверкая слегка, а то вдругъ начиналъ хохотать, и кричать, и прыгать.
Господи, помилуй насъ! Силъ никакихъ не было терпѣть, наконецъ! У отца голова на грудь падала, но докторъ все говорилъ ему: «А, скажи? А, скажи?..» А сказать не давалъ.
Било десять на большихъ часахъ; отецъ всталъ съ дивана и сказалъ:
— Время позднее, докторъ, не снять ли уже намъ съ тебя бремя бесѣды нашей?
Нѣтъ, — говоритъ, — я не усталъ и радъ тебя видѣть.
Било одиннадцать. Тоже. Било двѣнадцать, полночь…
— Ты уже спишь, я вижу, — сказалъ наконецъ Коэвино отцу.
— Сплю, другъ мой, прости мнѣ, сплю, — отвѣчалъ отецъ не поднимая уже и головы, бѣдный!
Коэвино огорчился, и я съ досадой замѣтилъ, что у него какъ бы презрѣніе выразилось на лицѣ: посмотрѣлъ на отца съ пренебреженіемъ въ лорнетъ, замолчалъ и позвалъ Гайдушу, чтобъ она намъ стелила.
— Я давно постелила, — отвѣчала Гайдуша. — Я сама деревенская и знаю, что деревенскіе люди привыкли рано спать. Это мы только съ вами, господинъ докторъ, привыкли такъ поздно бесѣдовать.
И усмѣхнулась хромушка и прыгнула какъ заяцъ въ сторону.
Опять оскорбленіе! Этотъ изступленный и на отца, котораго самъ же до полусмерти измучилъ, смотритъ съ презрѣніемъ въ стекло свое франкское, папистанъ такой, еретикъ ничтожный! И на меня стекло это оскорбительно наводитъ. И, наконецъ, эта хромая